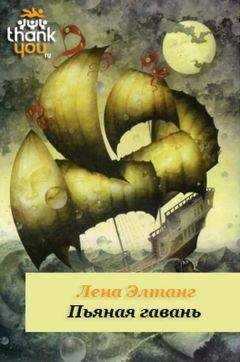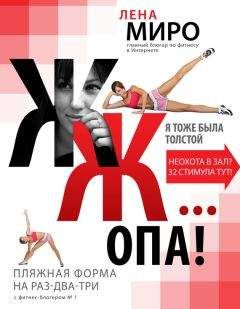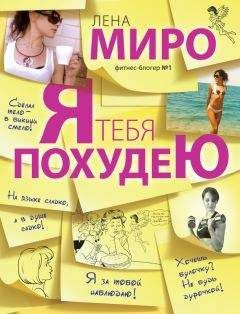Лена Элтанг - Каменные клены
Я еще подумала — какие подтяжки киношные, никто уже не носит такое, и засмеялась, как дура, прямо ему в лицо. А он сурово так головой покачал и пошел к тебе наверх.
Но я-то знала, что он тебе не скажет, и ведь не сказал, а утром ты…
Дневник Саши Сонли. 2008
…я смеюсь, но раздается такой звук, как будто кого-то придушили — то ли мышку, то ли птичку. [96]
О чем я думаю теперь?
Сестры уже нет, мамы и отца тоже нет, теперь не стало Хугина и Мунина, а это были последние достойные меня собеседники. Остались только цветы, вот, например, подсолнухи у ограды, корявые случайные дружки, выросшие из оброненной кем-то горсти семечек.
Да нет, какие уж тут случайности. Разве не подсолнухом обернулась Клития, не добившись Аполлонова тела? Запальчивая нимфа, уступившая сестре любовника — или там была племянница? да полно, врет Овидий, такая ненависть бывает только между сестрами.
Помню, как читала об этом на чердаке, растянувшись на старом ковре, кисло пахнущем овечьей шкурой, торопливо перелистывая страницы, возвращаясь все к той же стыдной картинке с божественными чреслами — помню даже, как бегала спрашивать у мамы, чем отличается подсолнух от гелиотропа, но так и не поняла.
Помню, как разглядывала голые бедра на гравюре Вензама, чувствуя, как незнакомо и тревожно потягивает внизу живота, и представляла, как взбешенный отец закапывает девчонку в землю живьем. Глубоко прибирает он свою Левкотою, завернув в покрывало сидонской расцветки, насыпает холмик над могилкой, забрасывает дерном, пишет имя на табличке из песчаника. А сверху на это смотрит Гелиос и от злости крепко мутится у него в голове. Прямо как у меня теперь.
Между прочим, бюстик Клитии, тот, что в Британском музее, на поверку оказался неизвестной римлянкой. Это говорит о чем-то или нет?
Проигравшие теряют имя, вот о чем это говорит. Как и те, кого внезапно разлюбили. У моей сестры было два имени, и что толку? Теперь она — неизвестная римлянка, женский портрет эпохи Траяна.
Что это я все сбиваюсь на драматические паузы? Что это мне мерещатся голые бедра? Была бы здесь Дейдра, она погрозила бы мне пальцем: уж не завела ли ты себе ухажера, дитя мое, Александра?
***…а можно ль разумом предугадать, а волей изменить событий бег?
Во времена танской империи у каждого способа письма было свое название: письмо наклонных струй, письмо листьев, изъеденных червями, — очень выразительно, дальше можно даже не читать.
Моя переписка с Младшей — это письмо наглотавшегося ягод красавки. Чего только не увидишь, гуляя с расширенными зрачками и учащенным сердцебиением — хоть бы даже и Рюбецаля, собирающего травы в горах. Я пишу в никуда, потому что никуда всегда отвечает, в отличие от всех остальных.
Я делаю ошибки за Эдну, путаю за нее запятые, выворачиваю наизнанку целые фразы, в ее письмах ко мне борются север и юг — будто средневековые пизанцы на мосту через Арно. На этот мост приходили бороться самые крепкие парни с левого и правого берегов, так они выгоняли из Пизы холодную зиму.
А что я выгоняю из себя, когда пишу эти письма?
Может, я и впрямь существо, которое немцы называли Hagazussa — та, которая сидит на заборе, огораживающем селение от мира, и мне не будет покоя, пока все мои бредни, не воплотятся, а химеры не оживут? А если они оживут — что я буду с ними делать?
Вернись сейчас моя сводная сестра из тех мест, где она пребывает, была бы я этому рада? Вот появись она прямо сейчас на пороге — что бы я сделала?
Привет, Крынкохлоп, сказала бы я. Так ее, пятилетнюю, звала наша служанка, правда, недолго. Бедняжка Эдна, белобрысый Clap-Cans, она мечтает о ресторане на берегу Темзы, ставит многоточие вместо точки и до сих пор думает, что омела — это деревце, растущее в поле.
Бедняжка Луэллин, он читает мой дневник тайком. Давно можно было догадаться, что я пишу для него, и не тратить столько сил понапрасну.
По крайней мере, я пишу для него с того дня, когда Луэллин вошел в «Клены» в своем вывернутом наизнанку плаще. Вернее — с того дня, как он разбил мою последнюю лампу в саду, швырнув горсть гравия через стену. Вернее — с того дня, как я посмотрела в его правый глаз цвета мокрого мха, который безнадежно притворяется зрячим.
***Eliza, Elizabeth, Betsy and Веss,
They went to the woods to get a bird’s nest;
They found a nest with four eggs in it;
They took one apiece, and left three in it.
Четырнадцатое июля.
Чудовище — пыльная свалявшаяся шерсть, сузившиеся глаза, блестящая кожа — вот что я вижу в боковом зеркальце в машине Сомми Кроссмана. Он везет меня в Тредегар в обойный магазин своего дяди, а я пишу в тетрадку, поглядывая в зеркало, неужели это я и есть? и так меня видят все остальные? Ладно, я напишу о чудовище в дневнике и избавлюсь от него навсегда.
Не зря же я прихватила дневник с собой, он охотно поглотит мое отражение. Все, о чем я здесь пишу, исчезает рано или поздно. Я написала о смотрителе Дрессере, и темные воды Темзы сомкнулись над ним.
Написала об инспекторе Луэллине, и он проникся ко мне отвращением.
Написала про амариллисы в оранжерее, и они засохли, скрутились в проволоку. Лет десять назад я написала стихи про свежий снег на песке, и снег растаял наутро, а было так красиво — белое на черном пляже и вода цвета остывшей золы.
Чем я лучше призрачной прачки Бен-Нийе, [97] что стирает одежды тех, кому суждено назавтра умереть? Говорят, у Прачки красные перепончатые ноги, и еще — она задает вопросы, на которые нужно отвечать всю правду, а не то получишь по ногам мокрым бельем. Встреть я ее на берегу, не нашлась бы, что и спросить — зачем мне вся правда? Я и с половиной не знаю что делать.
Утром, ошалев от наплыва постояльцев, я поручила их Эвертон, ушла к себе в спальню и стала слушать мамину старую пластинку: On n'oublie rien, on s'habitue.
В школе Хеверсток учительница французского Стюарт смеялась над моим произношением, оно царапало ей слух как наждачная бумага. Так она однажды выразилась, и я здорово рассердилась. Директор Моррис написал моим родителям, чтобы меня забрали, потому что я напала на мисс Энн Стюарт, но я на нее только замахнулась, я все помню.
Я бы не рассердилась так сильно, если бы не смеялся Поль, но он тоже смеялся.
За два дня до этого он водил меня в рощу, и, расстегнув тяжелый отцовский ремень, рассказывал про кукурузный початок, которым изнасиловали девушку в одной книге, теперь-то я знаю в какой. Лицо его было красным и надутым, губы распухли, он заглядывал мне в глаза, чтобы увидеть, как я боюсь.
— Вот такой здоровенный! — говорил он, показывая руками. — Представляешь, как ей было больно?
Я делала вид, что мне страшно, и недоверчиво жмурилась.
— Ты чего там пишешь? — спрашивает Сомми. — Все шуршишь своими листочками, бедная. Пора бы тебе говорить начать. Бумага тоже денег стоит! Вот увидишь, Хью даст тебе хорошую скидку, он ведь мне родня. Жаль, что твоя стена успела обгореть, мне нравились старые обои в васильках. Мне вообще ваш дом всегда нравился, и мама твоя нравилась, что бы там в городе ни говорили.
Сомми так похож на свою сестру Дору — оба бескостые, смешливые, с тугими подвижными щеками — что мне хочется написать что-нибудь смешное и показать ему. Или просто палец показать.
Вдруг он тоже умеет смеяться, как торжествующий царь альвов?
Табита. Письмо седьмое
Тетя Джейн, не стоило так волноваться.
Помнишь, ты рассказывала мне про девочку, укравшую десять пенсов — как она размышляла, признаться ей или купить мороженого. В конце концов она решила позвонить маме и спросить у нее, и позвонила — за те же десять пенсов!
Я чувствую себя этой девочкой, вот честное слово!
Надо все разузнать, написала ты в последнем письме, может статься, ты тратишь время на неправильного парня.
Но, тетя, я вовсе не трачу на него время!
Я хотела бы тратить на него каждую минуту, ночную и дневную, но вижу его раза два в неделю всего-навсего: когда мы сталкиваемся у почтового ящика или в прачечной, у круглой пасти стиральной машины, единственной на весь дом.
В апреле я стирала сразу после него и нашла оставленный в железном барабане серый шерстяной носок, не слишком-то элегантный, но без единой дырочки, я его высушила и держу у себя под подушкой.
Он такой же незаметный и немного потертый, как его хозяин, и я прижимаю его к лицу, и даже пробую на вкус, пытаясь представить, что это большой палец левой ноги Луэллина. Я совершенно уверена, что это левый носок. Он пахнет стиральным порошком и старой шерстью.
A drowning man will clutch at a straw, скажешь ты, да я и сама это знаю.