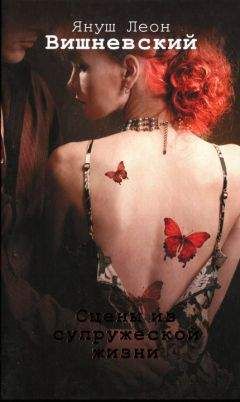Ольга Грушина - Очередь
— Пожалуйста, пожалуйста, возьми вот их взамен, они дорогие…
Его руки прекратили возню с пряжкой ремня. В наступившей тишине она услышала удары своего сердца.
— Чего взять? — выдохнул сопляк ей в шею.
Трясущимися руками она стала расстегивать замочки. Вокруг метались тени, кривляясь сквозь ее мокрые ресницы.
— Вот. — Она протянула ему открытую ладонь. Ветер обдал внезапным холодом ее голые колени. — Вот, видишь?
Он сверкнул глазами.
— Бриллианты, настоящие, — прошептала она. — Забирай.
Его рука ринулась к ней, выгребла начисто ее ладонь. Будто откуда-то со стороны, она увидела, как его добыча вспыхнула под лунным светом. В следующий миг его пальцы сжались, сияние потухло; вес, давивший на нее сверху, откатился. Она замерла, боясь пошевелиться, боясь вздохнуть. Потом, еще не веря, приподнялась, натянула юбку на колени, тупо уставилась в темноту. Темнота больше не таила в себе ничего, кроме удаляющегося скрежета гравия, блика луны, отраженного в бутылочном боку, да шороха перьев — голубь сны видит, отстранение подумала она.
Немного погодя она встала. На чулках зияли дыры, правый каблук обломился еще в самом начале, когда ее швырнуло о скамью, но в остальном она осталась невредимой. Она скинула туфли, скатала и бросила на землю чулки, и босиком, держа по туфле в каждой руке, побежала домой, бессознательно переступая через поблескивающее то тут, то там битое стекло, и ночь плескалась о ее голые ноги. Цветочный киоск у трамвайной остановки был теперь заколочен, розы исчезли; за полчаса ее отсутствия поздний август окончательно расправился с летом, и в воздухе зазвенела осень, чистая, пронзительная, яркая, как холодный осколок. Случайный прохожий неодобрительно на нее покосился, а еще через несколько минут, преодолев темный отрезок города, она увидела себя в зеркале его глазами: бледное немолодое лицо, прилипшие ко лбу волосы, капли засохшей боли на мочках ушей, голубые виски, блестящие от размазанного грима, губы, стекающие малиновой кровью помады на подбородок, пустые от безысходности глаза. Она долго стояла в прихожей, сжимая щеки ладонями, а потом, оторвавшись от зеркала, постучалась к матери.
У той горел свет, постель была не смята, в воздухе висела розовато-бурая духота, плыли неопределенные запахи, царила гнетущая тишина — все как всегда; время здесь прекратило свой ход. Анне показалось, что комната пуста, но возле письменного стола вдруг скрипнул стул. В нише полумрака сидела ее мать, утопая в старом атласном пеньюаре цвета пыльцы ночной бабочки, цвета померкших воспоминаний, такая маленькая, что едва доставала ступнями до пола.
— Я твои серьги взяла, — глухо сказала Анна, — но меня ограбили, и серьги отняли. Прости, я знаю, как они… как ты их…
В темных материнских глазах-бусинках мелькнул испуг. Анна хотела что-то добавить, но слова раскрошились в горле, потеряли толк и смысл, улетели на выдохе и канули в безмолвие. Она помедлила, потом развернулась, проковыляла к себе в комнату и рухнула на кровать как была — в нарядном чужом платье, с грязными ногами, к которым прилепились листья и травинки, с черными подошвами, собравшими всю пыль городского лета. Уткнувшись лицом в подушку, она почувствовала, как грудь ее наконец-то прорывают рыдания; но стоило ей погрузиться в густой, тесный мрак, где пахло теплом, дремотой и одиночеством, как ей почудилось чье-то присутствие, склоняющееся над ней, прикосновение легкой, как перышко, руки к ее спине, а в волосы ей зашептал голос, который она едва узнала, голос матери:
— Не убивайся так, не убивайся, родная моя, подумаешь — какие-то побрякушки, так мне и надо, не научила тебя, что бриллианты летом не носят, но ты не горюй, ничего страшного…
И по мере того как невидимая рука продолжала гладить ее по спине, она почему-то начала успокаиваться, сделалась тяжелее и меньше, пока не стала опять маленькой девочкой, которая свернулась калачиком в ложбине ночи, отяжелев от снов под пуховым одеялом, не ведая переживаний взрослой жизни; и девочке можно было закрыть глаза и слушать мамины сказки и, уплывая по волнам дремы, сплетать яркую, волшебную ткань из пряжи маминых слов, из мягкого и ровного маминого голоса, и верить, что утро вечера мудренее.
И, дав себе позволение заснуть, Анна не знала, кто гладил ее по спине: живая рука или ночная длань; и где нашептывал свои слова тот голос — во сне или наяву; и взаправду ли на туманной развилке ночи, открыв глаза, она увидела Сергея, который стоял подле кровати на коленях, склонив над ней изрезанное скорбными морщинами, внезапно постаревшее лицо, или же лицо его тоже было соткано из предрассветного мерцания, равно как и величественные бульвары, где ступали ее серебряные туфельки, равно как и неторопливое течение рек под причудливыми средневековыми химерами, равно как и вымышленный голос, на цыпочках приближающийся сквозь сон, чтобы увлечь ее за собой вверх по узким ступеням в прохладное, гулкое каменное место с витражами, поднимающимися от пола до потолка. Это был собор, и находился он в самом сердце чужеземного города, старинный собор, чьи окна сияли целой радугой торжественных цветов: синим было рождение мира и лиловым — шествие пророков, которые узрели будущее предназначение рода человеческого; красным горели мученики, которые приняли это пророчество на веру, и пламенно-зеленым исходил праведный, яростный конец света — и все было омыто красотой, все неземное.
Я часто сюда приходила в летние дни, после репетиций, рассказывал голос во сне. Мне нравилось, как в прохладе собора стыл на моих лопатках пот, а мои шаги эхом разносились под сводами; нравилось снова и снова ступать сквозь лучезарный частокол витражных отражений.
Помню, как я пришла сюда и в тот августовский день.
В тот день мне нездоровилось; впрочем, нездоровилось мне уже много недель кряду. Во время исполнения фуэте нередко накатывала тошнота, да и все тело давно перестало мне быть знакомым, делаясь в чем-то хрупким, в чем-то наоборот; и все же я продолжала танцевать. О враче я слышать не желала.
Мы репетировали его третий балет. Второй прошел с огромным успехом, став гвоздем минувшего сезона; нас приглашали на вечера в салонах, изысканных, как позолоченные чашечки; под неторопливыми колесами прогулочных экипажей шуршала листва; ночами после выступлений в гримерные приносили букеты роз, скрепленные дорогими браслетами, которые искусно змеились вокруг колючих стеблей. У него стали водиться деньги. Как-то раз, осенью, когда я покидала театр после спектакля, он — тенью на стене — поджидал меня на ступеньках. Куда мы едем, он говорить отказался, но я узнала улицы, дрожавшие в газовом свете фонарей за шторками экипажа. Когда мы остановились, время близилось к полуночи, но на тротуаре перед магазином горели яркие квадраты иллюминации. Внутри нас ожидало пенистое шампанское в двух элегантных бокалах; трое молодых приказчиков в тонких перчатках бесшумно скользили мимо с бархатными подносами, на которых что-то искрилось и сверкало, а толстячок-хозяин, не вынимая из глаза смешной выпуклой лупы, обводил манжетой с запонками свой товар и куртуазно повторял: «Мадемуазель, мадемуазель…»
Я растерялась. Выбор за меня сделал он сам: бриллиантовые серьги, как две капли воды похожие на те, что приглянулись нам в витрине годом ранее, когда все наше богатство состояло из реки под балконом, да солнечного луча на подушке в чужой квартире, да пузырьков шампанского, которое мы пили прямо из бутылки, отмечая ту первую восторженную рецензию.
Подарок я приняла с благодарностью и с тех пор неизменно выходила танцевать в этих сережках, но порой мне становилось грустно, словно житейские блага, надвигавшиеся на нас исподволь, крадучись на бархатных лапах, подменили собой что-то неистовое, юное, настоящее, а почему — кто ж его знает. Мы тогда были еще очень молоды, хотя сами об этом не подозревали. Наверное, полагали, что красота и счастье лишь тогда навечно врезаются в память, когда они долго не длятся, как головокружительный полет танцовщицы, которая всего на одну немыслимую секунду дольше возможного зависает над сценой в лучах софитов. Или же все было куда проще: быть может, он просто меня разлюбил. В том сезоне к нам в труппу пришла новая прима-балерина: я заметила, что на репетициях он не сводил с нее глаз. Не пойми превратно, радость моя, дело не в том, что чувства наши оказались непрочными, а лишь в том, что талантам это свойственно — любить свой огонь, свой блеск, отраженный в других, но ведь всегда найдется кто-то, чье зеркало превзойдет твое либо гладкостью, либо новизной, и отражение в нем получится ярче. Во всяком случае, так говорил Вацлав — хотя, конечно, выразился он не совсем так, — когда гладил меня по руке, стараясь утешить. Понимаешь, тогда я еще не умела молчать.
Всю зиму я плакала, а весной познакомилась со своим земляком. По возрасту он годился мне в отцы, глаза у него оказались голубыми, как тающие снега, и было мне рядом с ним так надежно и просто, что нередко я даже забывала свою печаль, которая так и осталась лежать в пыльных кулисах моей души, как некогда любимый, а ныне выставленный на улицу зверь. И все же время от времени, на протяжении всего того лета, лета моего недомогания, я уставала от своего новообретенного, тихого покоя и возвращалась к тебе в поисках чего-то еще — чего-то тайного, пугающего, радостного. Теперь ты жил в гостиницах, и нам не приходилось просить у друзей ключи от квартир; в гостиничных номерах повсюду валялись партитуры, дорогие простыни не холодили кожу, а в укромных уголках нет-нет да и появлялись не принадлежавшие мне скомканные шелковые вещицы.