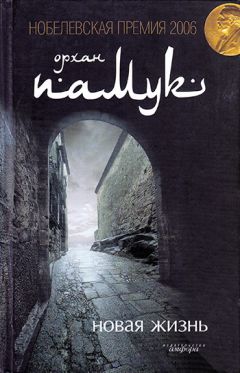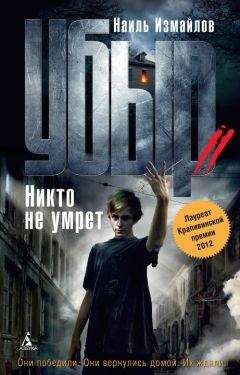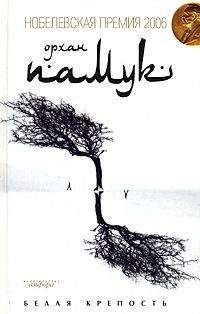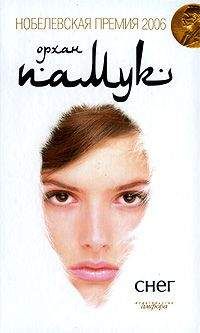Орхан Памук - Новая жизнь
В саду, обращенном в сторону вокзала, наступила тишина. Тон, каким он произнес эти слова, зародил во мне какое-то смутное беспокойство, заставив забыть о насмешливой злобе; я чувствовал себя так, как будто мне пришлось встать из удобного, мягкого кресла и взгромоздиться на жесткий, неудобный табурет.
— Все, что написано в книге, — сказал он, — осталось в далеком прошлом!
— Но ты же целыми днями переписываешь ее, — возразил я.
— Я пишу ради денег.
Он произнес это не с гордым видом, не с раскаянием, а, скорее, как человек, который извиняется за свои слова. Он переписывал книгу от руки в обычные школьные тетради. Так каждый день он работал в среднем по восемь — десять часов, а за час мог записать примерно три страницы; за десять дней он с легкостью выполнял экземпляр книги в триста страниц. Здесь есть люди, которые платят за это «разумные» деньги. Это передовые люди города, традиционалисты, те, кто любит его, кто ценит его усилия, его веру, его самоотверженность и терпение, кто выделяет его среди других, люди, которые счастливы от того, что среди них живет человек, который настойчиво следует своим принципам… И даже тот факт, что он посвятил свою жизнь столь скромному занятию, создало вокруг него легкий ореол легендарности — он произнес это смущенно. Его уважают, а в том, что он делает — тут он, как и я, употребил выражение «как бы это сказать», — находят некую сакральность…
Все это он говорил в ответ на мои настойчивые, с подвохом, вопросы; ему совершенно не нравилось рассказывать о себе. Он с благодарностью упомянул о доброте своих клиентов, упомянул о доброй воле энтузиастов, которые покупают у него написанные от руки экземпляры книги, сказал об их уважении к нему и добавил:
— Что ж. Я оказываю им услугу. Предлагаю им нечто настоящее. Книгу, где каждое слово написано верой и с верой. А они компенсируют мой честный ежедневный труд ежедневной платой. Но, в конце концов, все так живут.
Мы помолчали. Пока он ел свежие бублики с овечьим сыром, я подумал, что его жизнь устоялась; как было написано в книге, его жизнь «вошла в колею». Он тоже, как и я, отправился в дорогу под влиянием книги, но в тот момент, когда поиски и путешествия переплелись со смертью, любовью и несчастиями, ему удалось то, чего не удалось мне: он обрел душевное равновесие, неизменное во всем, обрел внутренний покой. Он осторожно откусил сыр и, смакуя, допил последний глоток чая, остававшегося на донышке, а я смотрел на него и думал о том, что эти маленькие руки, пальцы, рот, подбородок, голова каждый день выполняют одни и те же движения. Покой и душевное равновесие подарили ему бесконечное время. А я, обиженный судьбой, ненасытный, раскачивал под столом ногами.
Внезапно я понял, что завидую, мне захотелось сделать что-нибудь плохое. Но потом мне пришла в голову еще более отвратительная мысль. Если я сейчас вытащу пистолет и выстрелю ему в лоб, я все равно ничего не сделаю человеку, познавшему во время написания книг покой бесконечного времени. Он просто продолжит свой путь все в том же застывшем времени, хотя и немного изменится. А моя не ведавшая отдыха душа все никак не могла обрести покой, она металась и рвалась — как водитель автобуса, который забыл, куда едет.
Я спрашивал его о многом. Он отвечал мне короткими «да», «нет», «конечно», так, что я всегда понимал: я давно знаю ответы на все свои вопросы. Он был доволен жизнью. Он больше ничего не ждал от жизни. Он все еще любил книгу и верил ей. Он ни на кого не сердился. Он понял, что такое жизнь. Но не может объяснить. Конечно же, он удивился, увидев меня. Он не думал, что сможет кого-нибудь чему-нибудь научить. Каждый живет как хочет, и, с его точки зрения, все жизни схожи. Ему нравилось одиночество, но это не важно, потому что и с людьми ему было неплохо. Джанан он когда-то сильно любил. Да, он влюбился в нее. Но потом ему удалось сбежать от нее. Он не удивлен, что я сумел найти его. Он передает Джанан большой привет. Писать — это единственное дело его жизни, но не единственное счастье. Он знал, что должен работать как все. Может, ему понравятся и другие занятия. Да, он может выполнять любую работу, если она позволяет заработать на хлеб. Смотреть на мир, действительно видеть его таким, каков он есть, доставляло ему большое удовольствие.
На вокзале паровоз сдавал задним ходом. Мы смотрели на него, ему вслед: он проехал мимо, выпуская огромные клубы дыма и пыхтя, старый, усталый, он издавал стоны и лязгал железом — как слаженно звучавший городской оркестр.
Когда локомотив скрылся за миндальными деревьями, я посмотрел в глаза человека, чье сердце собирался прострелить, мечтая обрести с Джанан покой, который удалось обрести ему, опять и опять переписывая книгу. Мгновение я смотрел на него как на брата, следуя за его грустным, детским взглядом, и вдруг понял, почему Джанан так любила этого человека. То, что я понял, показалось мне настолько настоящим и настолько правильным, что я зауважал Джанан за ее любовь. Но несколько минут спустя это раздражавшее меня уважение уступило место ревности, сильной и глубокой.
Потом убийца спросил жертву, почему, решив предать себя забвению в этом далеком городе, он выбрал имя Осман, — так же звали и убийцу.
— Я не знаю, — ответил ненастоящий Осман, не замечая всполохи ревности в глазах настоящего Османа. А затем, мило улыбнувшись, добавил: — Ты мне понравился тогда, раньше, когда я тебя увидел. Наверное, поэтому.
Внимательно, с каким-то уважением он следил за паровозом, возвращавшимся из-за миндальных деревьев на другой путь. Убийца мог поклясться, что жертва, засмотревшись на сияющий в лучах солнца локомотив, на миг забыла обо всем мире. Но это было не так. Утренняя прохлада уступала место зною солнечного дня.
— Уже девять, — проговорил мой соперник. — Мне пора работать… Ты куда едешь?
Впервые в жизни я о чем-то умолял человека, волнуясь и прекрасно сознавая, что делаю: пожалуйста, давай посидим еще немного, еще поговорим, узнаем друг друга получше.
Он удивился и, кажется, слегка забеспокоился, но понял меня. Он чувствовал не пистолет в моем в кармане, а мою ненасытную жажду. И он так снисходительно мне улыбнулся, что ощущение равенства, возникшее благодаря «вальтеру», мгновенно улетучилось. Так усталый путник, не добравшийся до средоточия жизни, но познавший лишь границы собственной убогости, боится задавать вопросы — о книге, о жизни, о времени, о слове, об ангеле — у встретившегося мудреца.
Я спрашивал его, что все это означает, а он спрашивал меня, что я подразумеваю под «всем этим». Я хотел спросить: какой вопрос можно считать началом начал, — я собирался его задать. И он сказал, что я должен найти место, где нет начала и нет конца. Так значит, наверное, нет вопроса, который я могу ему задать? Нет. Ладно, а что существует? Существует реальность, то, что происходит, и реальность зависит от того, как ты ее воспринимаешь. Иногда наступает затишье, и тогда люди начинают волноваться. А иногда люди пьют по утрам чай в кафе, совсем как мы сейчас, беседуют, смотрят на паровозы и поезда, слушают трели горлиц. Конечно, это отнюдь не «все», но и не «ничто». Хорошо, но разве где-то там, вдалеке, нет новой страны? Если где-то что-то и есть, то только в книге; но он решил, что совершенно бесполезно искать в реальной жизни отзвуки мира книги. Мир так же безграничен, как и текст книги, с теми же недостатками и вопросами.
Тогда почему книга так повлияла на нас обоих? Он ответил, что об этом мог спросить человек, не увидевший в книге вообще ничего. Таких людей много, но я разве — один из них? Я давно уже забыл, какой я. Я давно утратил душу: когда пытался заставить Джанан полюбить себя, когда искал ту страну, когда хотел убить своего соперника. Об этом я не стал говорить, Ангел, я спросил его, кто ты такой.
— Я никогда не встречал ангела, о котором написано в книге, — сказал он мне. — Может быть, человек, умирая, видит его из окна автобуса.
Как он хорошо улыбался, как безжалостно! Я убью его. Но не сразу. Мы должны еще поговорить. Сначала я должен узнать у него, как мне найти и вернуть душу. Но ощущение собственной ничтожности мешало мне. Обычное утро в Восточной Анатолии: по прогнозам, ожидалась переменная облачность, местами дожди, мирный вокзал сиял светом, две курицы задумчиво копошились в конце перрона, два веселых парнишки, болтая, таскали из тележки в привокзальный буфет ящики с газировкой, начальник станции курил сигарету, — все отвлекло меня, заставляя думать только о наступающем дне.
Мы долго молчали. Я все думал, о чем его спросить. А он, возможно, придумывал, как ему избавиться от меня и моих вопросов. Мы еще немного посидели. И тут случилось ужасное. Он заплатил за чай. Обнял и расцеловал меня в щеки. Как он рад мне! А я его ненавидел! Ладно, я не ненавидел, я любил. Нет! С какой стати мне его любить? Я хотел убить его.
Не сейчас. Он пойдет мимо циркового шатра на обратном пути, войдет в комнату, в эту крысиную нору на аккуратной улице, живущей по законам перспективы, займется дурацкой писаниной. Я срежу путь у железной дороги, догоню его и убью на глазах у Ангела Желаний, которого он так презирает.