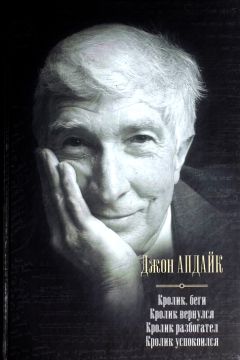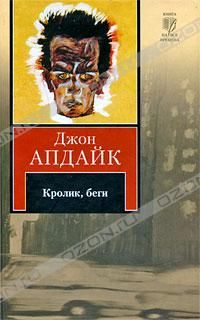Джон Апдайк - Кролик, беги
С унизительной благодарностью она слышит:
– Нет, я не хочу говорить тебе до свиданья. Я только хочу ответа на мой вопрос.
– Ответ на твой вопрос – да.
– Гаррисон?
– Почему Гаррисон для тебя так много значит?
– Потому что он дерьмо. И если тебе все равно, что Гаррисон, что я, значит, я тоже дерьмо.
На секунду ей кажется, что ей действительно все равно – она даже предпочла бы Гаррисона, хотя бы для разнообразия, хотя бы потому, что он не считает себя лучше всех на свете, – но это неправда.
– Нет, мне не все равно. Вы в разных спортивных лигах.
– Когда вы с ним сидели против меня в кафе, у меня появилось очень странное чувство. Что у тебя еще с ним было?
– Да не знаю я. Что вообще у людей бывает? Спят, стараются сблизиться.
– Ну, хорошо, а ты согласна, чтоб у тебя со мной было все то, что и с ним?
От этих слов кожа у нее почему-то так сильно натянулась, что все тело сжимается, будто под прессом, и к горлу подступает тошнота.
– Если ты хочешь.
Для жены кожа шлюхи слишком тесна. Он радуется, как мальчишка, зубы в восторге сверкают.
– Только один раз, – обещает он. – Честное слово. Я больше никогда не стану тебя просить.
Он хочет обнять ее, но она отталкивает его. Единственная надежда, что они говорят о разных вещах.
Войдя в квартиру, он жалобно спрашивает:
– Ты не раздумала?
Ее поражает беспомощность его позы – в темноте, к которой ее глаза еще не привыкли, он кажется костюмом, висящим на белой кнопке его собственного лица.
– Ты уверен, что мы говорим об одном и том же?
– А о чем мы, по-твоему, говорим? – Брезгливость не позволяет ему облечь свои мысли в слова.
Она их произносит.
– Вот именно, – подтверждает он.
– Значит, ты этого хочешь?
– Угу. Неужели это для тебя так страшно?
Проблеск его прежней доброты придает ей смелости.
– Можно мне спросить, чем я перед тобой провинилась?
– Мне не понравилось, как ты себя вела.
– Как я себя вела?
– Как та, кем была прежде.
– Я не хотела.
– Неважно. Сегодня я увидел тебя такой и почувствовал, что между нами стена и есть только один способ через нее перейти.
– Очень остроумно. Ты и вправду этого хочешь. – Ее так и подмывает оскорбить его, сказать, чтобы он убирался. Но время уже упущено.
– Неужели это для тебя так страшно? – повторяет он.
– Да, потому что ты так считаешь.
– Может, и не считаю.
– Слушай. Я тебя любила.
– Ну и что? Я тоже тебя любил.
– А теперь?
– Не знаю. Но я все еще хочу тебя любить.
Опять эти проклятые слезы. Она торопит слова, пока голос еще не сорвался.
– Ах, как мило. Ты же просто герой.
– Не умничай. Слушай. Сегодня ты пошла против меня. Я хочу поставить тебя на колени.
– Только и всего?
– Нет. Не только.
Две изрядные порции спиртного привели к печальным результатам – ей смертельно хочется спать, во рту какой-то кислый вкус. Но нутром она чувствует необходимость удержать его при себе и думает: не отпугнет ли его это? Не убьет ли в нем чувство к ней?
– Если я поступлю по-твоему, что это докажет?
– Это докажет, что ты моя.
– Раздеться?
– Конечно.
Он быстро и аккуратно снимает одежду и во всем великолепии своего тела стоит возле тусклой стены. Неловко прислонившись к стене, он поднимает руку и, не зная, куда ее девать, вешает себе на плечо. Во всей его робкой позе чувствуется какая-то напряженность, словно он крылатый ангел, ожидающий вести. Рут раздевается, и прикосновение к собственному телу холодит ей руки. Последний месяц ей все время холодно. В сумеречном свете он слегка шевелится. Она закрывает глаза и говорит себе: они вовсе не уродливы. Не уродливы. Нет.
Миссис Спрингер позвонила в пасторат в самом начале девятого. Миссис Экклз сказала ей, что Джек поехал с юношеской командой играть в софтбол куда-то за пятнадцать миль и она не знает, когда он вернется. Паническое настроение миссис Спрингер передалось по проводам, и Люси два часа звонила всем подряд, пытаясь найти мужа. Стемнело. В конце концов она дозвонилась до священника той церкви, с чьей софтбольной командой они играли, и он сказал, что игра давно кончилась. На улице спустилась тьма, окно, на котором стоял телефон, превратилось в восковое полосатое зеркало, в нем было видно, как она, растрепанная, мечется между телефонной книгой и телефоном. Джойс, слыша беспрерывное щелканье диска, сошла вниз и прильнула к матери. Люси три раза уводила ее наверх и укладывала в постель, но девочка дважды спускалась обратно и в молчаливом испуге тяжелым, влажным телом прижималась к ногам матери. Весь дом, комната за комнатой, окружив тьмой маленький островок света вокруг телефона, полнился угрозой, и когда в третий раз Джойс уже не вернулась, Люси почувствовала себя одновременно и виноватой и покинутой, словно продала теням своего единственного союзника. Она набирала номера всех подопечных Экклза, о которых только могла вспомнить, говорила с секретарем и членами приходского совета, с тремя сопредседателями благотворительного общества, со старым глухим церковным сторожем Генри и даже с органистом – учителем музыки из Бруэра.
Часовая стрелка передвинулась за десять, и Люси стало просто не по себе. Похоже на то, что он ее бросил. Кроме шуток, даже страшно, что ее мужа нет нигде на свете. Она варит кофе и тихонько плачет у себя на кухне. Почему она вообще за него вышла? Что ее привлекло? Его веселость, он всегда был такой веселый. Тот, кто знал его семинаристом, никогда бы не поверил, что он будет принимать все так близко к сердцу. Когда они с друзьями сидели в своих старинных комнатах, где постоянно тянуло сквозняком, где стены были уставлены красивыми голубыми фолиантами с толкованием библейских текстов, все казалось ей изящной шуткой. Она вспоминает, как играла с ними в софтбольном матче «Афанасиане» против «Ариан».[12] А теперь она никогда не видела его веселым; всю свою веселость он растрачивал на чужих, на этот серый, унылый, неосязаемый приход – ее злейшего врага. О, как она ненавидит всех этих въедливых, психованных, ноющих вдов и религиозно озабоченных молодых людей! Хорошо бы сюда пришли русские – они, по крайней мере, отменят всякую религию. Ее вообще надо было отменить сто лет назад. Может, и нет, может, она нужна нам для души, но пусть ею занимается кто-нибудь другой. Джека все это повергает в такое уныние. Иногда его просто жалко, вот и сейчас тоже.
Без четверти одиннадцать он наконец приезжает. Оказалось, что он сидел в какой-то аптеке и сплетничал со своими подростками – эти идиоты обо всем ему рассказывают, все они курят, как паровозы, и вот он является в телячьем восторге от их вопросов вроде «как далеко» можно «заходить» на свиданиях и все же любить Иисуса.
Экклз сразу видит, что она в ярости. Ему было слишком хорошо в аптеке. Он любит ребят, их вера так безыскусна, так легка.
Люси передает ему свое сообщение в форме упрека, но все ее старания напрасны, ибо, презрев намек на проведенный ею ужасный вечер, он мчится к телефону.
Он открывает бумажник и между водительскими правами и карточкой публичной библиотеки находит номер телефона, который давно уже хранит, ключ, который можно повернуть в замке один-единственный раз. Набирая номер, он думает, подойдет ли этот ключ, не глупо ли полагаться только на слова молодой миссис Фоснахт с ее зеркальными, пустыми, солнечными очками. Далекий телефон дает длинные гудки, словно электричество, эта дрессированная мышь, пронеслось по бесконечно длинным проводам лишь для того, чтобы у самой цели вгрызться в непроницаемую металлическую пластинку. Он молится, но это дурная молитва, молитва, полная сомнений, ему не удается заставить Бога подчинить себе мудреное электричество. Бог отступает перед его незыблемыми законами. Надежда рухнула, он не вешает трубку просто по инерции, как вдруг грызущие гудки умолкают, металл отодвигается, и в ухо Экклза врывается принесенная проводами мощная волна воздуха и света.
– Алло. – Мужской голос, но это не Гарри. Он более вялый и грубый, чем голос его приятеля.
– Нет ли здесь Гарри Энгстрома? – Солнечные очки издеваются над его тревогой, он не туда попал.
– Кто это?
– С вами говорит Джек Экклз.
– А. Привет.
– Это вы, Гарри? Я вас не узнал. Вы спали?
– Да, кажется.
– Гарри, у вашей жены начались роды. Ее мать звонила сюда около восьми, но я только что приехал. – Экклз закрывает глаза, он чувствует, что в темной пронзительной тишине подвергается испытанию самая суть его пастырской деятельности.
– Да, – шепотом отвечает его собеседник из далекого угла тьмы. – Мне, пожалуй, надо к ней пойти.
– Я бы очень хотел.
– Да, я, пожалуй, должен. Ребенок-то ведь мой.
– Вот именно. Встретимся там. В больнице святого Иосифа в Бруэре. Вы знаете, где она?
– Конечно, знаю. Туда десять минут ходьбы.