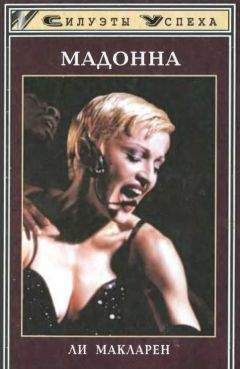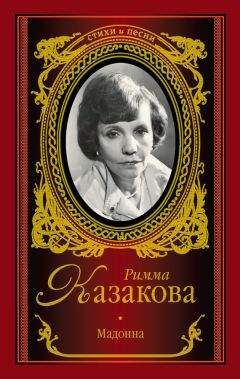Мария Глушко - Мадонна с пайковым хлебом
Нина не могла простить, что жизнь ее обеднили незнанием, она чувствовала себя в чем-то виноватой и не знала, кому конкретно адресовать упреки. Ведь от нее специально ничего не скрывали, ей просто не говорили, и она ни о чем таком не догадывалась, хотя могла бы… Смутно помнит, как постучалась к ним женщина с двумя детьми, обмотанными тряпьем, и как мать кормила их на кухне обедом и дала с собой каравай хлеба и головку сахара, собрала старую Никиткину и Нинину одежду… Запомнились Нине худые темные пальцы маленького мальчика, боязливо тянущиеся к тарелке с хлебом, — его ладошка была похожа на птичью лапку…
Всплыл в памяти скандал в семье. В Саратов приехал товарищ отца, они все сидели за столом, в дверь постучалась старуха, попросила хлеба, мать вынесла ей еду, а когда вернулась, оглядела накрытой стол, вздохнула: «Кусок в горло не идет!» А гость сказал: «Обо всех не наплачешься, нужных людей государство до голода не допустит». Нина помнила, как прыгали губы матери и как она кричала: «Ты фашист! Ты фашист! — и вышла, хлопнув дверью. А вечером они поссорились с отцом, отец говорил о законах гостеприимства, а она опять кричала: «Он фашист!» Вскоре товарищ отца трагически погиб в железнодорожной катастрофе, отец плакал, читая некролог в «Красной Звезде», а мать сказала жестко: «Туда ему и дорога! Жаль тех, кто погиб вместе с ним».
Выходит, люди тогда жили по-разному, как бы в двух слоях, и слои эти лишь соприкасались, но не смешивались… Она-то обитала в верхнем слое, там было светло и празднично, там приживались готовые формулы: «Жить стало лучше, жить стало веселее!», и дети на праздниках непременно кричали: «Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство!» — и никогда ей не пришло в голову задуматься о том, всем ли стало жить «лучше и веселее» и у всех ли детей было «счастливое детство»… — Ты, Нетеля, чего запечалилась? — Евгения Ивановна тронула ее за руку. — Об Москве своей? Не уйдет от тебя Москва… Зиму пережили, теперь не помрем, завтра из крапивы щей наварю, глядишь, и щавель подоспеет…
— Огорожи у тебя нету, поворуют, — сказала Ипполитовна.
— Ворам огорожа не помеха… Ничего, что людям, то и нам.
Ипполитовна сложила на животе свои ручки, вздохнула:
— Давеча в церкви православному воинству здравие служили, а я свечку-то с жопки зажгла, кверху ногами поставила да энтого Гитлера все за упокой, за упокой поминала…
— С твоих заупокойных молитв он только жиреет, вон опять попер… Как тепло стало, так он и прет!
А Нина сидела, все еще погруженная в прошлое, опять вспоминала, как жили в. Саратове, была жива мама, и Нина не понимала, что это и есть счастье, е-то казалось, что так живут все. И сейчас, из будущего, она заново открывала для себя ту жизнь, и всех тех людей, и свою так рано ушедшую от детей мать…
Нина помнила, как вернулись они из летних Татищевских лагерей и узнали, что в квартире побывали воры, они вытащили все продукты, пол был запорошен мукой, на ней четко отпечатались следы мужских сапог. Отец не велел ничего трогать, поехал в милицию, а мать сидела, опустив руки, потом выпроводила Никитку во двор, а Нине и Лине сказала» «Давайте уберем и вымоем пол». Нина удивилась: ведь отец- не велел ничего трогать сказал, что приедет милиция с собакой и по следам найдут воров… «Какие там воры, — устало проговорила мать, — голодные это, а не воры, ничего, кроме продуктов, не взяли, хоть детей накормят»; Они все убрали, вымыли пол, отец, конечно, сердился, потому что воров не нашли, но и тогда Нина не задумалась, не спросила: почему — голодные? Откуда голодные? Не по равнодушию и не потому, что была маленькой, а оттого, что была сытой.
Может, за мамину доброту к людям и посылает мне сейчас судьба добрых людей? — подумала Нина.
42
К открытию детской молочной кухни Нина опоздала. Пока одевала Витюшку, сама упарилась, а он раскричался, выплевывал соску, пришлось разогревать молоко, кормить его, потом долго не было трамвая, так что когда добралась, во дворе уже толпились матери и бабушки с младенцами на руках. Толстая тетка в белом халате, раскинув руки, загораживала дверь, кричала:
— Осади назад! Вы мне всю кухню разнесете! Пускаю по двое в порядке очереди!
Нина подумала, что сегодня, пожалуй, уйдет ни с чем, — так бывало всякий раз, когда опаздывала к открытию: молока подвозили мало, раздатчицам хватало на час-полтора работы. Она пыталась хотя бы приблизительно прикинуть, сколько тут людей, но очередь не обозначалась, женщины стояли в три ряда, а некоторые прохаживались, покачивая плачущих младенцев, не было никакой возможности сосчитать людей. Но она не ушла, а по всегдашней нашей привычке надеяться до последнего стояла, подняв на ступеньку ногу и посадив на колено Витюшку.
Было жарко тут, на солнцепеке, и Нина поискала глазами тень, увидела под деревом женщин, расположившихся прямо на жидкой и чахлой городской траве, пошла и села рядом с ними.
Из дверей выходили счастливицы с сумками, %из которых торчали головки маленьких бутылочек, заткнутые ватой, все смотрели на эти бутылочки, и Нина тоже смотрела, пыталась сообразить, чем же она накормит сына. Того, что получала здесь по рецепту, хватало на три кормления, остальное готовила сама на козьем молоке, но вчера молока ей не дали, заболела коза, и теперь придется прямо отсюда ехать на рынок.
Она уже решила не терять зря времени, а отправиться на рынок, но тут из дверей вышла высокая молодая женщина в сиреневом платье, и Нине почудилось что-то очень знакомое в ее лице — в гордой горбинке носа, в гневном изломе бровей и в том, как резко отодвинула она загромоздившую выход толстую тетку, и в низком голосе, когда сказала:
— А йу, дайте пройти!
Господи, Павла! Павла Бурмина!.. Или нет?
Женщина пошла к воротам, шагая по-мужски крупно, размашисто, и Нина подхватилась с травы, прижав сына, побежала за ней, не смея окликнуть, и уже за воротами позвала:
— Павлина…
Женщина сразу остановилась, как будто наткнулась на стену, резко обернулась, свела брови.
— Вы меня?
И тут глаза ее посветлели, брови разлетелись к вискам, она охнула тихонько, и обе кинулись друг к другу.
— Нинка!
— Павка!
Так они и стояли, замерев, потом Павлина оторвала ее голову от своего плеча, поглядела в лицо и опять прижала к себе, обняла вместе с ребенком. V Нинка! Нечаева!
Нина молчала, сглатывая слезы, Павла Бурмина была совсем из другой жизни, и теперь Нина словно вернулась в те годы, на проезд Девичьего Поля, в свое детство…
— Ну-ну, не хлюпай! — Павлина похлопала ее по спине, забрала Витьку. — Мальчик? И когда ж ты успела?
Нина вытерла ладонью глаза.
— Ой, Павка… На базар мне надо… — Она протянула было руки, но Павла ребенка не отдала.
— Ну, нет, не затем мы с тобой встретились, чтобы вот так сразу же и расстаться.
— Я приду. Дай мне адрес.
— Не затем… — перебила Павлина. — Возьми мою сумку и айда ко мне, у меня и пацана покормим.
Павлина несла ребенка, а Нина с ее сумкой семенила рядом, еле успевая за ее крупным шагом. Павлина искоса поглядывала на нее, на темное остренькое лицо, на ситцевое, вылинявшее от стирок платье, на старенькие спортсменки на пуговках и опять на лицо…
— Ты как тут, в Саратове?
Нина коротко, без подробностей рассказала про Ташкент и как по дороге в Саратов, на маленькой станции, родила сына и что живет у хорошей, доброй женщины… И про отца — что на фронте, про мужа — пока в училище…
В трамвае они сели друг против друга, и Павлина все смотрела на нее; может, что-то вспоминала, а Нине хотелось спросить ее про мать, про испанского брата Игнатика и не слышно ли об отце, но она никак не могла решиться.
Они вышли из трамвая, поднялись на горку, подошли к голубому двухэтажному дому.
— Вот тут мы с Борькой обитаем, это дом моих свекров.
— Борька — это муж?
— Борька — это сын, ему три года.
— А муж?
— Где теперь мужья? На войне, — холодно и даже, как показалось Нине, враждебно сказала Павлина и, передав Витюшку Нине, принялась колотить в дверь.
Первый этаж дома был из кирпича, выбелен голубым, второй — деревянный, окна украшали резные, похожие на кружева наличники, в окнах виднелись цветущие герани, и дом вообще выглядел ухоженным и нарядным.
Наконец дверь открылась, женщина в косынке и переднике улыбнулась бледными губами.
— Ах, Павлинька, зачем так громко, Бореньку разбудишь, он недавно уснул.
Павлина впустила Нину в просторный коридор, заставленный ящиками и корзинами.
— Так вот, Полина Дмитриевна, это моя подруга еще по Москве, ее зовут Нина.
Женщина опять принужденно улыбнулась и мелко закивала, то ли здоровалась, то, ли просто принимала к сведению слова невестки.
— Так что вы, Полина Дмитриевна, сейчас покормите нас, а малышу сварите кисель из черной смородины.