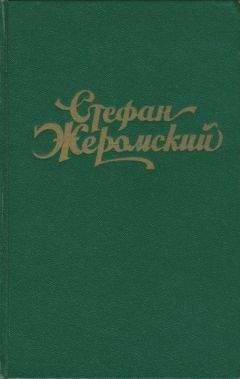Пьер Пежю - Смех людоеда
— Скульптурой заниматься и мозги трахать — полностью противоположные вещи!
Хватит об этом.
Так вот, в этом уголке Франции я усердно тружусь вот уже десять лет. Здесь родились наши дети, здесь Жанна все еще день за днем пытается приохотить меня к счастью. Счастью в ее понимании — гладкому и плотному. Без лишних слов и двойного дна. Способности ощущать чудо нашего присутствия в вещественном мире, при свете дня. Чудо детских голосов, тела другого и собственного тела. Чудо дыхания, ходьбы, вкуса, обоняния и ежедневное чудо нового дня. А я каждую ночь испытываю удручающее одиночество, смутное горе оттого, что промахиваюсь, прохожу мимо того, что ищу, словно ослеплен непроглядным туманом.
Каждую ночь, когда прелесть и покой долины растворяются в темной тишине, я явственно слышу, как ворчит и всхрапывает Ужас. Ужас, который спит не так уж глубоко под землей. Ночью и я чувствую ту безликую жестокость, о которой пытался написать Жионо: кровь на снегу, белое безмолвие, преступление, заурядность зла. Здесь, совсем рядом. В полях и деревнях. У источников. В подлесках и на полянах. Сегодня, как и вчера. Я-то не писатель, я не умею писать. Но сколько я ни бью по камню, сколько ни работаю с самыми трудными материалами, остается тайна, мне недоступная.
Может быть, когда-нибудь уцелевшая в катастрофе форма будет существовать настолько прочно, что ни во мне и ни в ком другом нуждаться не станет. Она пойдет сама. Идущая фигура из камня или бронзы. И я смогу уйти. Время будет ее обтекать, и ему довольно будет касаться ее глазами. Как далеко остался мой первый маленький Голем! А пока что я бью без передышки, прислушиваясь к тому, как отзывается на мои удары каждая каменная порода. Мне нравятся камни, осыпавшиеся с горы Эгюий. Нравятся ардешский гранит и экзотические породы дерева. Иногда я работаю с окаменевшей лавой или костью. Мое большое стадо пасется в мастерской — бывшем амбаре рядом с домом. Я, лишенный развлечений мастер и разбойник с большой дороги, действую и созерцаю.
Когда Доддс приезжает меня навестить, я издали слышу трещащий на поворотах мотор его грузовика. Опустевший крюк раскачивается на конце троса. Он приближается. Он уже здесь. Гордо несет мне обломки камня, о котором рассказывал.
— Ты точно что-нибудь из этого сделаешь!
Потом вытаскивает из-под сиденья две бутылки вина.
— Перейдем к серьезным вещам!
Предлагаю ему провести со мной весь день.
Я знаю, что он очень любит Жанну, и знаю, как они умеют наперебой восклицать: «М-м! До чего вкусно!» — уплетая за обе щеки и запивая каждый кусок вином.
— Я сразу обратно, — говорит Доддс, — у меня ужас сколько работы, и потом, я сейчас живу с одной цыпочкой. Совсем желторотая, но миленькая. Ей не нравится, когда я бросаю ее одну среди камней.
Тот же Доддс, разумеется, дал мне возможность в первый раз выставить некоторые мои работы. Затем моими каменными и металлическими созданиями заинтересовались несколько галерей. Муниципалитеты стали заказывать мне памятники. Предприятия и фонды покупали у меня статуи. Я продавал деревянные и бронзовые фигурки.
Я все еще стою неподвижно на пороге нашего дома. Чашка уже не греет мне руки, но мне приятно держать этот толстый фаянсовый сосуд. Я неравнодушен к этим нескольким кубическим сантиметрам благоухающей пустоты. Ограниченной пустоты. Простая белая впадина, чуть отличающаяся от остального пространства. Словом, чашка…
Наконец солнце одним скачком взлетает над горой, осыпая серо-голубую долину золотистыми блестками. Светлые пятна быстро расширяются. Сейчас я не спеша обойду глыбы необработанного камня и уже отшлифованные фигуры, которые ждут меня в мастерской. Думаю, что вполне мог бы все утро ничего не делать, сидеть среди обломков, в пыли и плакать про себя, невозмутимо и с сухими глазами.
Из кухни доносятся голоса Жанны, Камиллы и Эжена, звон посуды, что-то говорит радио. Привычные семейные звуки, образующие внешнюю оболочку мирной жизни. Свет и тишина. Жена и дети. Я знаю, что как только дети проглотят завтрак, они немедленно ворвутся в мастерскую. Еще заспанная Камилла, моя трехлетняя дочка. И Эжен, которому скоро пять: он любит брать мои инструменты, запускать руки в ведра с просеянной глиной или играть с кусочками камня. Обоим детям нравится лепить рядом со мной. Повсюду валяются маленькие рыжие или серые человечки.
У нас троих иногда бывают минуты странного молчаливого сообщничества, когда мы мнем и лепим влажную податливую глину. Наши пальцы трудятся, мы морщимся от усердия, расходуем первобытную энергию детства. Хочется, чтобы из глины родились маленькие изумленные человечки. Чудесные уродцы, которые затвердеют на солнышке, а потом выйдут в жизнь. Рай до грехопадения.
Обычное утро.
Эжена приняли в маленькую деревенскую школу, а Камиллу, когда Жанна на работе, берет к себе одна женщина, знакомит ее с жизнью на ферме.
За десять лет Жанна сильно изменилась. Вернее, раскрылось то, что в ней было заложено. Ей очень мало надо для того, чтобы быть самой собой. Когда мы познакомились, она была медсестрой, теперь стала акушеркой, и ей приходится каждый день ехать на машине за тридцать километров в больницу, где она работает. Я знаю, насколько точны ее движения, но теперь ее руки с упоением, с подлинной страстью принимают рождающихся на свет детей, встречают совсем новенькую, пищащую и великолепную жизнь. Мне хотелось бы создать такую гранитную форму, чтобы рассказать о встрече и чуде прихода в мир. Но миг рождения скульптуре не дается — он от нее ускользает. Так и должно быть. И старый каменотес остается один со своими до полусмерти замученными выродками.
Вскоре я наблюдаю за Жанной, ведущей своих детенышей вниз по склону. Сжатая форма, на которую я смотрю против света, чуть затуманивается. Изваяние любимого трехглавого существа, оно удаляется, оставив меня одного и не подозревая о том, что домом тотчас завладеют старые тени.
Как только жена и дети уходят, я открываю тайный ящик, давно врученный мне черноволосой Пандорой, и оттуда выходят тревога, неуверенность, беспокойство, недовольство, сомнение, разочарование, сожаление, неверие, жестокость — словом, свора мерзких тварей, которые заползают во все щели, устраиваются между челюстями статуй, гнездятся в глазницах. Раненый краб с головой ворона, взгромоздившись на глыбу белого мрамора, издает скрипучий звук и опорожняется чем-то зеленоватым. Ссохшиеся стариковские головы на курьих ножках разбегаются во все стороны и жуют камень, словно хлебный мякиш.
Перепуганный, окруженный ими, подавленный численным превосходством, я только и могу, что бить, дырявить, обтесывать, откалывать крупные куски материи и в то же время молиться о том, чтобы эта материя как можно дольше мне сопротивлялась. Потому что я не хочу ни победы, ни поражения. Осколки ударяются о защитную маску, царапают лоб. Поясницу ломит. Лопатки вот-вот отвалятся, и локоть тоже, и челюсть. Большой палец и запястье болят так, что хоть криком кричи. Я делаюсь одновременно силой и камнем. Я делаюсь точкой удара и ухмыляющейся пустотой. Я ору, но, по крайней мере, пока луплю по камню, меня нет — я исчезаю!
Вечером, когда Жанна и дети возвращаются домой, весь этот зверинец несется к оставшемуся открытым ящику. Совершенно выдохшийся, я захлопываю крышку и успокаиваюсь. Теперь можно смотреть, как наступает ночь, сидя на скамейке рядом с Жанной, которая увлеченно рассказывает мне о событиях сегодняшнего дня. От усталости она пышет жаром. Может быть, энергия младенцев, которых она подхватывает, когда их выталкивает материнское лоно, может быть, красота мелких сморщенных существ переходит в ее плоть, ее щеки, ее голос? Уже совсем темно. Оттого что Жанна рядом, я успокаиваюсь. Мне сейчас хорошо, и я не хочу рассказывать ей о своих сражениях с нечистью в мастерской. И все же иногда вечерами, в недобрый час, Жанна улавливает звериный запах. Это запах моего пота и пыли, пропитавший свитер. В моих глазах она видит след угрозы-медузы. Но окаменеть могу только я!
Жанна говорит, что у меня круги под глазами. И больше ничего. Она расстраивается из-за того, что я могу вот так мгновенно осунуться. Она замечает, что кожа у меня серая и сухая. И тогда она льнет своей усталостью к моей. Своей живительной усталостью прижимается к моему бессилию ваятеля пустоты. Совершенно опорожненного.
Жду мгновения, когда смогу еще раз — надолго ли? — положить голову на ее колени и почувствовать, как точно вписывается мой лоб в ее прохладную ладонь.
С некоторых пор мне случается уловить и ревнивое раздражение Жанны. Она терпеть не может эти гложущие меня вопросы! Она молчит. Защищается от злобной Германии, которая и сюда сумела пробраться. От смутной беспокойной Германии, которая колышется, не приближаясь к самому дому, в подлесках, в горных провалах, на тихих тропинках, на унылой каменной вершине горы Эгюий, там, на самом верху, выше зацепившейся за гору тяжелой тучи. Жанна борется тогда с тем, что я могу назвать ее «ненавистью к скульптуре», которая сливается с моей собственной «ненавистью к скульптуре». Ее ожесточение и моя усталость смешиваются и образуют холодный шар, все больше разрастающийся, пока мы катаем его по толстому слою невысказанного.