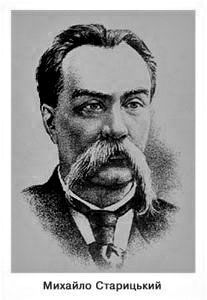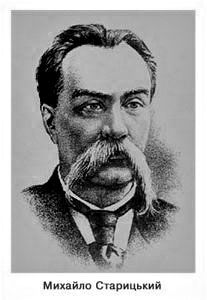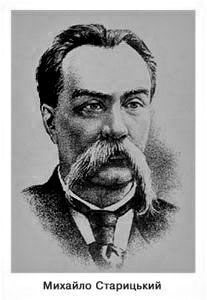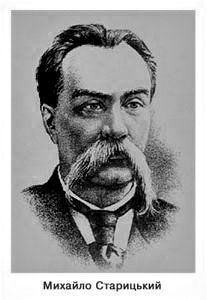Михаил Старицкий - Рассказы
Жизнь наша текла ленивой, сонной струей, не возмущаемой ни бурями, ни подводными камнями. Приходили с раннего утра, удосвита, приказчик да ключница, и с общего совета, в котором участвовала и няня, делались распоряжения по хозяйству, потом являлся повар, за ним баба-молочница… Затем переносились хлопоты на меня, общего баловня: начиналось одевание паныча, проходившее, конечно, не без капризов… Впрочем, большая часть дня тратилась на панское кормление: пили чай, кофе, снидали, обедали, пидвечиркували, вновь пили чай… и вечеряли; в антрактах между кормежками я немного занимался с мамой: арифметикой, законом божиим, географией, а с бабушкой — языками и игрой на клавикордах; остальное время я проводил в забавах с хлопцами и дивчатами, или же на дворе — летом, или в детской — зимой. С весны в открытые окна нашего домика врывались и песни рабочих, и гомон улицы, и запах шелюги, что росла по той стороне озера, вверх по песчаным холмам… и минорные стоны лягушек. Но с глубокой осени, когда вставлялись двойные окна, пропускавшие только мутный, зеленоватый свет, когда в углах залегал сумрак и двери закрывались в темные сени, жизнь наша замыкалась в этой тьме, как в тюрьме, и замирала почти в однообразной, безмолвной тоске.
В комнатах воцарялась тишина, прерываемая лишь изредка какой-либо фразой или моим шумом; но и моя детская резвость угасала скоро в присутствии молчаливых лиц бабушки и матери, вечно занятых каким-либо делом: бабушка, например, или вязала чулки, или пряла на кужиле, или раскладывала пасьянсы, а мама все вышивала на пяльцах да тачала что-то и только в сумерки иногда садилась за клавикорды и пела заунывные украинские песни… да так пела, что приковывала и меня, неугомонного, к месту, вызывая в детском сердце страдание, а в глазах непрошеную слезу…
Когда же наступал вечер и подавали сальные свечи, наш флигелечек несколько оживлялся. Приходили к нам постоянно из села и бабы, и молодицы — на посиденье. Мама и бабуня оживлялись при этих гостях, угощали их чаем, наливкой и коротали с ними длинные вечера в общей работе — большей частью пряже, — за теплой беседой об интересах села, о семейных радостях и печалях. Под шелест тихих речей, под журчанье веретен, под лепет причудливых сказок я засыпал… и такой патриархальной идиллией заканчивался наш день.
Единственным соседом у нас был капитан, пан Гайдовский, живший на конце села, рядом с заброшенной нашей старой усадьбой, в своем, как он выражался, курене; пан капитан обладал двадцатью душами "мужеского пола" крестьян, которые размещены были в четырех хатах, стоявших с капитанским будынком в одном дворище: вся усадьба Гайдовского обнесена была глубокой и широкой канавой с высокой насыпью вроде вала, поросшей непролазным колючим кустарником, люцией, и замыкавшейся крепкой дубовой брамой. В этом маленьком укреплении помещался и садик из низкорослых кудрявых яблонь и слив. На противоположном же конце нашего села стояла старая, покосившаяся церковь, а к ней теснилась полуразвалившаяся усадьба с заколоченным наглухо длинным и низеньким домом, с заглохшим садом, над которым простирались вверх засохшие ветви, словно покорченные руки скелетов. Усадьба эта принадлежала какому-то отсутствовавшему владельцу, приобревшему эту часть селения; о нем ходили таинственные и страшные слухи.
Каждое воскресенье, каждый праздник мы отправлялись пешком в церковь и заставали там капитана, стройная, высокая фигура которого возвышалась над массой голов и виднелась еще издали; стоял он всегда на правом клиросе вместе с дьячком и исполнял почти всю его должность, то есть читал молитвы, псалмы, парамеи, апостола и пел вместе с ними священные песни, причем дьяк, подперши щеку рукой, заливался страшно высоким, визгливым фальцетом, а пан капитан подтягивал ему баском, спускавшимся в эффектных местах до октавы. Одет был капитан по праздникам всегда в неизменную казачью форму (он служил на Кавказе в Черноморском полку): синие широкие с красными выпушками штаны и казакинжупанец с беленьким крестиком и тремя медалями.
Я всегда считал за особенное счастье примоститься к капитану на клирос и не отводил глаз от его лица, — таким он казался мне симпатичным и милым; в действительности же наружный вид его был скорее суров: большой, подбритый на висках лоб прикрывался серой, подстриженной грибком чуприной; широкие, сросшиеся на переносье брови разделялись глубокой вертикальной складкой; длинные, закрывающие рот усы возвышались какими-то двумя холмиками над худыми, гладко выбритыми щеками и падали волнистыми концами на казакин, касаясь почти медалей, — все это производило впечатление некоторого страха, и у каждого, встречавшего капитана в первый раз, шевелился невольно вопрос: "А что, как этакому попасться в руки?" Но, всмотревшись в его глаза, иссера-карие, бесконечно добрые и бесконечно грустные, — вопрос этот сам собой падал, и чувство страха заменялось чувством полной безопасности и даже влечения…
Из церкви капитан всегда заходил к нам, к добрым, как выражался он, сусидонькам поздравить с праздником, выпить две чарки деревиевки, закусить пирогами, колбасами и драченым, выпить иногда и филижанку кофе, но на обед никогда не оставался.
— Не могу, моя люба пани, — всегда отговаривался он, — семья дома ждет.
— Да какая там семья, — возразит, бывало, мама, — две собаки да кошка?..
— Хе, сусидонько, и те к семье… Но, кроме их, у меня еще четыре подсусидка (так он называл крестьян своих) с бабами, дидами, жинками и детьми… Мы так целым кошем и садимся за стол. Значит, остаться мне и нельзя: будут ждать…
— Ты вот это хорошо, что с крестьянами ласков… по-божески… — заметит на то бабуня, — а вот панибратничать с ними все-таки не годится… Ты ведь дворянин, пане, а род твой, я знаю, старый… шляхетский…
— Казачий, моя шановна пани, — поправит капитан, — а эти самые крестьяне были тоже тогда казаками, так что же мне перед ними кичиться?.. Вместе мы добываем себе кусок хлеба, вместе и поживать его надо. Не гневайтесь уже на меня, старого бурлаку, — целовал он руку бабуни, — сжился я с ними, как с родными…
— Да я что!.. — смирялась старушка. — Женить-то, конечно, тебя уже поздно…
— Да, — вздыхал капитан и сейчас же перебивал речь: — А вот позвольте вашему хлопцу, Михаилу, к нам, на запорожский обед?!
Мать и бабуня чаще уклонялись давать мне позволение на эти обеды, ссылаясь на мое слабое здоровье, — и объестся, мол, и простудится, — но я иногда успевал неотступными просьбами выканючить разрешение и с неописанным восторгом спешил с паном Гайдовским в его курень.
Это была та же крестьянская хата, немного больше размером и с ганком — навесом на двух колонках; с ганка дверь вела в обширные сени; слева от них была комора, а справа — простая кухня с варистой печью, а за ней уже помещалась и капитанская кошевая светлица.
Помещение кошевого представляло из себя небольшую комнату с дощатым полом и двумя довольно высокими окнами; в нем поражал меня особенно темный дубовый сволок, выделявшийся резко на побеленном потолке, испещренный крестами да изречениями из священного писания; кроме сволока, еще врезалась в память мне изразцовая печь, большая, широкая, с высоким гребнеобразным карнизом; блестящие изразцы ее пестрели невиданными цветами и неслыханными чудовищами. Вся мебель комнаты состояла из кровати, топчана, двух деревянных стульев, точильного станка, большого дубового стола с подвижными досками и винтами, должно быть, столярного верстака.
Над кроватью у капитана прибит был ковер, увешанный саблями, шашками, кинжалами и двумя ружьями, с бандурой в центре; там же у изголовья висел акварельный портрет какой-то красивой дивчины… Кто была она — я не знал, да и капитан не любил, когда я касался этого вопроса: "Годи, — бывало, оборвет, — ты ще мале!"
Противоположную стену украшали две литографированные картины: одна изображала турка, покупающего невольницу, а другая — какую-то распатланную деву с ребенком на руках и надписью: "Под вечер осенью ненастной"; над входной дверью висела тоже картина, писанная масляными красками, темная и протертая, изображавшая казака Мамая с чудовищными усами. В углу еще, высоко над кроватью, прибит был образ, уквитчанный весь сухими васильками и гвоздикой… Вот и все, что находилось в капитанском коше. Капитан меня очень любил, а я… я просто обожал "дядька-атамана", как он просил, чтоб я называл его. Да и как было не обожать!.. И кубари он мне точил, и бумажные змеи клеил, и луки делал, и стрелять учил, а то рассказывал про старину, про Запорожье, про набеги черкесов, про боевые схватки, — да так рассказывал хорошо, что даже няня, без которой меня редко пускали, увлекалась этими рассказами до слез.
Капитан постоянно говорил по-украински, — иной речи он не знал и не признавал, — считая, что и печерские святые говорили лишь по-запорожски, а себя он считал потомком запорожцев; он показывал мне портрет своего прадеда, настоящего запорожца, в запорожском уборе, а сам он служил в черноморцах, где так свежи были предания Сечи; оттуда-то он и занес в свой крохотный уголок обрывки дорогих для него воспоминаний. Со своими крестьянами он жил совершенно по-братски: вместе с ними обрабатывал свой клочок земли и делился поровну урожаем, вместе с ними трапезовал и проводил праздничные досуги, вместе с ними делил общие семейные радости и печали. С соседними помещиками пан Гайдовский почти не знался; они смотрели на него с некоторым высокомерием за его "мужичество", а он в них не нуждался; только и бывали у него изредка пан Моцок да пан Александр, мой дядя, которого капитан уважал и любил искренно.