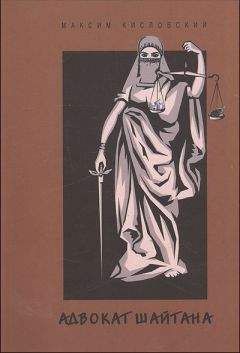Роберто Боланьо - Третий рейх
Полицейские появились через полчаса. Их было трое, и, похоже, они понятия не имели, чего мы здесь дожидаемся. И снова все объяснения взял на себя управляющий «Коста-Брава», после чего длинными коридорами и лестницами нас провели в белый прямоугольный зал, располагавшийся под землей, или мне так показалось, и мы увидели труп Чарли.
— Это он?
— Да, это он, — сказал я, и сеньор Пере, и все другие.
С фрау Эльзой на крыше.
— Это твое убежище? Великолепный вид. Ты можешь ощущать себя королевой города.
— Никем я себя не ощущаю.
— На самом деле сейчас здесь лучше, чем в августе. Не так жарко. Если бы это было мое местечко, я, наверное, поставил бы здесь горшки с цветами; немножко зелени тут не помешало бы. Стало бы уютнее.
— Я не нуждаюсь в уюте. Мне нравится так, как есть. К тому же это вовсе не мое убежище.
— Я знаю, но это единственное место, где ты можешь побыть одна.
— Это тоже не совсем так.
— Ладно, я пришел, потому что мне надо с тобой поговорить.
— Нет, Удо, не сейчас. Попозже, если хочешь, я спущусь к тебе в номер.
— И займемся любовью?
— Этого никогда не знаешь заранее.
— Но ведь мы с тобой еще никогда этого не делали. Все целовались и целовались, но до сих пор не решились лечь в постель. Мы ведем себя как дети!
— Не переживай из-за этого. Все будет, когда появятся необходимые условия.
— Какие еще условия?
— Влечение, дружба, желание оставить что-то такое, что невозможно забыть. И все это должно возникнуть естественно, само по себе.
— А я бы отправился в постель хоть сию минуту. Время летит, тебе это никогда не приходило в голову?
— Сейчас я хочу побыть одна. Кроме того, я немного побаиваюсь попасть в эмоциональную зависимость от такого человека, как ты. Временами я начинаю думать, что ты очень безответственная личность, но потом убеждаюсь в противном. В тебе есть что-то трагическое. По-моему, ты никак не можешь обрести душевное равновесие.
— Ты до сих пор считаешь меня ребенком…
— Идиот, я даже не помню тебя в детском возрасте, да и был ли ты когда-нибудь ребенком?
— Правда не помнишь?
— Разумеется. Смутно припоминаю твоих родителей, и это все. Воспоминания, которые остаются у тебя от отдыхающих, отличаются от тех, что связаны с нормальными людьми. Это как фрагменты из фильмов… нет, скорее, отдельные фотографии, портреты, тысячи портретов, и все это пустое.
— Даже не знаю, успокоили меня твои тонкие рассуждения или испугали… Вчера вечером, когда мы играли с Горелым, я видел тебя. Ты разговаривала с Волком и Ягненком. Вероятно, для тебя они нормальные люди, которые оставляют о себе нормальные, а не пустые воспоминания?
— Они спрашивали про тебя. Я велела им убираться.
— Прекрасный поступок. Почему же ты стояла с ними так долго?
— Мы разговаривали о разных вещах.
— О каких вещах? Может, обо мне? О том, чем я занимаюсь?
— Мы говорили о том, что тебя совершенно не касается. Не о тебе.
— Не знаю, верить ли тебе, но в любом случае спасибо. Мне совершенно не хотелось, чтобы они меня беспокоили.
— Кто ты? Всего-навсего любитель военных игр?
— Нет, конечно. Я молодой человек, который стремится к развлечениям… Здоровым развлечениям. И еще я немец.
— А что это значит — быть немцем?
— Точно не знаю. Но уверен, что это нелегкая миссия. Миссия, о которой мы постепенно забыли.
— И я тоже?
— Все. Ты, возможно, в меньшей степени.
— Видимо, я должна воспринять это как похвалу.
Ближе к вечеру я заглянул в «Андалузский уголок». После отъезда курортников бар понемногу вновь приобретает свой истинный жутковатый вид. Пол грязный и липкий, усеянный окурками и салфетками, на стойке громоздятся тарелки, чашки, бутылки, остатки бутербродов, и все вокруг погружено в особую атмосферу запустения и покоя. Юные испанцы все так же прилипли к видео, а сидящий неподалеку от них хозяин бара читает спортивную газету. Конечно, все уже знают о том, что тело Чарли найдено, и хотя в первые минуты сохраняют почтительную дистанцию, затем хозяин подходит ко мне и без долгих предисловий выражает свои соболезнования. «Жизнь коротка», — говорит он, поднося мне кофе с молоком, и садится рядом. Застигнутый врасплох, я отделываюсь обтекаемой фразой. «Теперь поедешь домой, и все начнется сначала». Я молча кивнул; все, кто был в баре, делали вид, будто смотрят видео, а на самом деле внимательно прислушивались к моим словам. Пожилая женщина за стойкой не спускала с меня глаз, опершись лбом на руку. «Твоя невеста небось тебя заждалась. Жизнь продолжается, и надо прожить ее как можно лучше». Я спросил, кто эта женщина. Хозяин улыбнулся. «Это моя мать. Она ничего не знает. Просто она не любит, когда кончается лето». Я удивился, что она так молода. «Да, она родила меня в пятнадцать лет. Я самый старший из десяти детей. Бедняжка намучилась с нами». Я сказал, что она очень хорошо сохранилась. «Она работает на кухне. Целый день готовит бутерброды, фасоль со свиной колбасой, паэлью, яичницу с жареной картошкой, пиццу». Нужно будет как-нибудь попробовать у вас паэлью, сказал я. Хозяин заморгал, едва не прослезившись. Но, конечно, уже будущим летом, добавил я. «Теперь она уже не такая, как раньше, — угрюмо заметил он. — Раньше, бывало, просто пальчики оближешь, до того вкусна, не то что сейчас». Раньше — это когда? «Много лет назад». Так это нормально, сказал я, наверно, вы настолько к ней привыкли, что уже не находите в ней прежнего вкуса. «Может быть». Женщина, сидевшая все в той же позе, улыбнулась в ответ то ли на мои слова, то ли на рассуждения о времени и жизни. В ее морщинистой и грустной улыбке мне почудился неиссякаемый энтузиазм. Хозяин на какой-то миг задумался, после чего не без труда встал и предложил мне коньяку «от имени заведения», но я отказался, потому что еще не допил свой кофе с молоком. Проходя рядом со стойкой, хозяин обернулся и, глядя на меня, поцеловал мать в лоб. Вернулся он с рюмкой коньяку в руке и более оживленным. Я спросил его, что слышно о Волке и Ягненке. Ищут работу. Какого рода работу, он не знал, да где угодно, хоть на стройке. Говорил он на эту тему неохотно. Надеюсь, в конце концов они найдут что-нибудь себе по вкусу, предположил я. Он в это не верил. Как-то раз, пару сезонов назад, он нанял Волка, и худшего официанта у него никогда не было. Всего месяц Волк тогда у него продержался. «В любом случае лучше искать работу, пусть даже никто не горит желанием тебя взять, чем маяться без дела, как свинья». Я был с ним согласен. Первое предпочтительнее. Как-никак хоть какие-то позитивные действия. «Вот ты сейчас уедешь, и кто начнет маяться, как собака, так это Горелый». (Почему собака, а не свинья? Хозяин умел обозначить различия.) Мы с ним хорошие друзья, сказал я, хотя сам в это не слишком верил. «Я не про это, — его глаза блеснули, — а про игру». Я молча взглянул на него. Он держал руки под столом и раскачивался так, словно мастурбировал. Как бы там ни было, тема его явно занимала. «Про твою игру. Горелый от нее в восторге. Никогда не видел, чтобы он так чем-нибудь увлекся». Да-да, сказал я откашлявшись. Честно говоря, меня удивило, что Горелый рассказывает о нашей игре направо и налево. Молодежь у видео уже почти в открытую смотрела в мою сторону. У меня возникло ощущение, что они с грозным видом ожидают чего-то из ряда вон выходящего. «Горелый — умный парень, только очень стеснительный; это из-за ожогов, ясное дело». Хозяин говорил теперь едва слышно, почти шепотом. Тем временем из другого конца бара его мать, или кем там она ему приходилась, вновь одарила меня свирепой улыбкой. Это естественно, сказал я ему. «Твоя игра — это что-то вроде шахмат, тоже какой-то спорт?» Да, нечто похожее. «Но это военная игра, как-то связанная со Второй мировой войной, так ведь?» Именно так. «И Горелый проигрывает, или, по крайней мере, тебе так кажется, верно? Потому что все неясно». Действительно. «Партия останется неоконченной, и это к лучшему». Я поинтересовался, почему он так считает. «Из гуманных соображений!» Хозяин бара вздрогнул и тут же, словно успокаивая меня, заулыбался. «Я бы на твоем месте с ним не связывался». Я благоразумно промолчал, выжидая. «Ему не нравятся немцы». Я вспомнил Чарли, ему нравился Горелый, и он уверял, что у них с ним взаимная симпатия. Или же об этом говорила Ханна? У меня вдруг стало так скверно на душе, что захотелось поскорее вернуться в «Дель-Map», собрать вещи и сразу уехать подобру-поздорову. «А знаешь, ведь его изуродовали сознательно, это не несчастный случай». Кто, немцы? Поэтому немцы ему не нравятся? Хозяин бара съежился так, что едва не касался подбородком красной пластиковой крышки стола, и пробурчал: «Немецкая банда». Я понял, что он имеет в виду игру, «Третий рейх». Должно быть, Горелый не в своем уме! — воскликнул я. Ответом мне были полные ненависти взгляды тех, кто сидел возле видео, я ощущал их на себе физически. Это же всего-навсего игра, и ничего больше, а он говорил так, словно существовали особые фишки гестапо (ха-ха), готовые полететь в лицо тому, кто играет за союзников. «Не могу видеть, как он страдает». Он не страдает, сказал я, а развлекается. И думает! «Вот это-то хуже всего, этот парень слишком много думает». Женщина за стойкой покачала головой и засунула палец в ухо. Мне вспомнилась Ингеборг. Неужели мы пили и говорили о нашей любви в этом грязном и вонючем кабачке? Неудивительно, что она от меня устала. Моя бедная и далекая Ингеборг. Неотвратимой бедой веяло от каждого уголка бара. Хозяин проделал трюк с левой частью своего лица: надул щеку так, что она полностью закрыла глаз. Я не оценил его ловкости. Впрочем, он, по-моему, не обиделся, так как пребывал в прекрасном расположении духа. «Нацисты, — сказал он. — Настоящие нацистские солдаты, которые свободно бродят по свету». Ага, сказал я и закурил. Все это постепенно принимало поистине сверхъестественную окраску. Так, стало быть, ходят слухи, что его покалечили нацисты? Где же это произошло, когда и почему? Хозяин бара посмотрел на меня с чувством превосходства и ответил, что когда-то давно Горелый был солдатом, «одним из тех солдат, что отчаянно сражаются до конца». Служил в пехоте, уточнил я. Вслед за этим с улыбкой спросил, не еврей ли Горелый или, может, русский, но хозяин в таких тонкостях не разбирался. Он сказал: «С ним любой побоится связываться, да стоит только подумать об этом, как душа в пятки уходит (видимо, он имел в виду юных хулиганов из „Андалузского уголка“). Ты, например, щупал когда-нибудь его бицепсы?» Нет. «А я щупал», — говорит он замогильным голосом. И добавляет: «Прошлым летом он работал у меня на кухне, он сам так решил, чтобы я не потерял клиентов; известно ведь, что туристам не по вкусу такие физиономии, особенно когда они выпьют». Я возразил, что насчет этого много чего можно сказать, у каждого, как известно, свой вкус. Хозяин отрицательно помотал головой. В его глазах появился злобный блеск. Ноги моей больше не будет в этой дыре, подумал я. «Мечтаю, чтобы он вернулся ко мне, я его очень ценю и потому рад, что игра закончилась вничью; не хотелось бы, чтобы у него возникли проблемы». Какие проблемы он имеет в виду? — осведомился я. С таким видом, будто он любуется пейзажем, хозяин долго рассматривал свою мать, стойку бара, полки с пыльными бутылками, афиши футбольных клубов. «Худшая из проблем — это когда ты не способен выполнить обещание», — задумчиво произнес он. Какого рода обещание? Огонек, светившийся в его глазах, внезапно погас. Признаюсь, на какой-то миг мне показалось, что он сейчас расплачется. Но я ошибся: этот хитрец просто ухмылялся и выжидал, напоминая старого, жирного и шкодливого кота. Оно как-то связано с моим погибшим другом? — начал я издалека. Может, с его женщиной? Хозяин схватился рукой за живот и воскликнул: «Ой, не знаю, ничего не знаю, но только сейчас я лопну!» Я не понял, что он хотел сказать этими словами, и промолчал. Скоро я должен был встретиться с Горелым у входа в гостиницу, и эта перспектива впервые за все время вызывала у меня некоторое беспокойство. За стойкой, тускло освещенной свисавшими с потолка лампочками, которые давали желтоватый свет, женщины уже не было. Вы знаете Горелого, расскажите мне, какой он. «Это невозможно, невозможно», — пробормотал хозяин. За полуприкрытыми окнами начала сгущаться темнота и сырость. Снаружи, на террасе, оставались одни тени, время от времени разбегавшиеся от фар автомобилей, которые сворачивали с бульвара к центру городка. Я меланхолично представил себе, как ищу неизвестно куда подевавшееся шоссе, ведущее во Францию, оставив далеко позади гостиницу и каникулы. «Это невозможно, невозможно», — печально пробормотал он и снова съежился так, словно ему вдруг стало очень холодно. По крайней мере, скажите, откуда он родом, черт бы его побрал. Один из зрителей обернулся к нашему столику и сказал, что это призрак. Хозяин бара посмотрел на него с досадой. «Ему будет чего-то не хватать, но зато он успокоится». Откуда он родом? — повторил я. Тот же паренек взглянул на меня, гнусно улыбаясь. Он из народа.