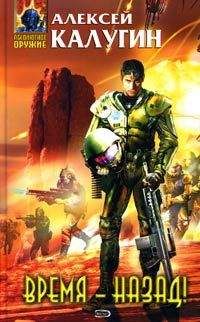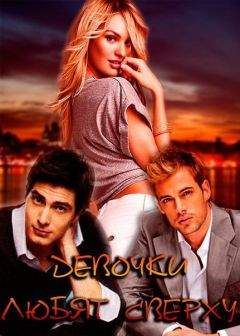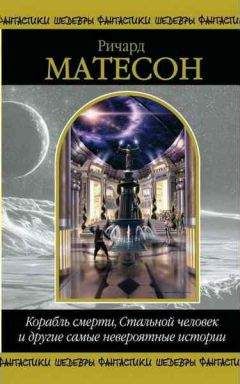Йоханнес Зиммель - Любовь - только слово
— Она бьет его?
— Полагаю, уже двадцать лет!
— Ну и ну!
— Говорю тебе, это его первая любовь! Как только я нашел плетки, мне совершенно все стало ясно! Она — единственный мужчина из них троих! А моя мать — лишь жалкий дух. А мой отец? Только и слышно: «Лиззи! Лиззи!» У нее доверенности на все его счета. Говорю тебе, она участвует в каждом новом его трюке, в любой коммерческой махинации. Говорю тебе, сейчас отец — ничто, всего-навсего ноль без палочки, шестерка в ее руках, а она — садистка.
— Мерзко.
— Почему же? Он хочет порку. Лиззи задает ему ее. That's love.[22]
— Не говори так.
— Возможно, он обращался с подобной просьбой и к матери, а она отказала. Или плохо выполнила. Удовлетворить мазохиста, видимо, не так уж и просто. Ну, он и выбрал ту, которая его так хорошо порола. Ты бы видела ее! Настоящая мегера.
— Отвратительно.
— Я говорю правду, а она всегда отвратительна.
— У нас ничего не получится.
— Почему?
— Потому что ты такой.
— Но ты точно такая же.
— Да, — говорит она и снова по-детски смеется. — Это правда.
— Это будет самая великая любовь на свете, и она не кончится, пока один из нас не умрет.
— Sentimental fool.[23]
— Ага, ты тоже знаешь английский?
— Да.
— Конечно. Каждой немке после войны досталось по американскому возлюбленному.
— Ты что, спятил? Как ты со мной разговариваешь?
— Ах, простите, милостивая государыня, у вас такого не было?
— Три!
— Всего? — спрашиваю я. — Ну и ну! На чем я остановился?
— На мазохизме отца, — отвечает она и все смеется. — Боже мой, боже мой, ну и разговор!
— Верно. Говорю тебе, он типичный мазохист. Я стал за ним наблюдать, пристально и долго, когда нашел плетки. И за тетей Лиззи. Как она командует. Как смотрит на него. Как просит огоньку, когда хочет закурить сигарету. И затем возится, прикуривая, так долго, что отец обжигает пальцы. Им это нравится, еще как нравится. Обоим!
— Оливер, этот мир гадок. Если бы не Эвелин, я бы наложила на себя руки.
— Ах, брось! Очень немногие накладывают на себя руки. Что ты думаешь, и я частенько играл с этой идеей! Мы с тобой слишком трусливы для этого. К тому же у тебя все хорошо! Ты — богатая женщина! У тебя есть любовник. А теперь еще и я. Если хочешь, можешь проверить, кто лучше…
— Оливер!
Я говорю именно те вещи, о которых не хочу говорить.
— Прости, пожалуйста. Я веду себя несносно. Я говорю именно те вещи, о которых не хочу говорить.
— Я тоже, я тоже! Все время! Возможно, ты прав, и это будет любовь. Это было бы ужасно!
— Нет, нет. Одно я тебе сразу скажу: я для тебя никогда не буду таким, как Энрико! Я не поцелую тебя, не прикоснусь к тебе, если мы не будем по-настоящему любить друг друга.
Она снова отворачивается и тихо произносит:
— Это были самые прекрасные слова, когда-либо сказанные мне мужчиной.
Глава 10
Она опять не смотрит на меня, лежит, отвернувшись к стене. В профиль она еще красивее. У нее маленькие ушки. Одни эти ушки кого угодно с ума сведут…
— Ну да, — говорю я. — That's the whole story.[24] За эти тринадцать лет милая тетя Лиззи все прибрал к рукам. Сейчас она королева. Колотит моего старика. Определяет ход событий. А отец — всего лишь марионетка. Что он за малый, можно понять, понаблюдав за тем, как он обращается с подчиненными: бесцеремонно, безжалостно. Малейший проступок — «You are fired!»[25] Типично для таких парней. Безвольно слушается женщину, а с окружающими — тиран. Подумать только: настоящего шефа заводов Мансфельда зовут сейчас, да что сейчас, уже много лет, Лиззи Штальман. Штальман — прекрасное имя для дамы, не так ли? Я уверен, уже в истории с налогами она рьяно помогала отцу. Из-за нее мне не позволили последовать за семьей в Люксембург. Понимаешь? Мать она уже растоптала. Отцом овладела полностью. Только я еще стоял у нее на пути.
— Бедный Оливер, — говорит Верена и снова смотрит на меня.
— Бедная Верена. Бедная Эвелин. Бедная мамочка. Бедные люди.
— Ужасно.
— Что?
— Как мы похожи друг на друга.
— Почему ужасно? Сейчас я скажу нечто смешное, нечто забавное. Сказать?
— Да.
— Ты — все, что у меня на свете есть, все, во что я верю, все, что люблю, и все, ради чего я хотел бы быть приличным человеком, если б только мог. Я знаю, мы могли бы быть страшно счастливы вместе. Мы…
— Прекрати!
— Твой ребенок стал бы моим ребенком…
— Прекрати!
— И никогда-никогда-никогда мы бы не обманывали друг друга. Мы бы все делали вместе: ели, путешествовали, слушали концерты, засыпали, пробуждались. Завтра тебя выпишут. Ты придешь в субботу к нашей башне, в три часа?
— Если смогу.
— Если не сможешь, дай мне знак в ночь на субботу. Три коротких сигнала. Значит, ты не сможешь. Или три длинных — значит, ты придешь.
— О Господи.
— Что это значит — опять «о Господи»?
— А ведь я на двенадцать лет тебя старше! — Она долго смотрит на меня. — Оливер… Оливер… Знаешь, что странно?
— Что?
— Что я, несмотря ни на что, так счастлива.
— Я тоже, я тоже!
— Да, но со мной это первый раз в жизни, — она выдвигает ящик тумбочки. — Посмотри, — говорит она, — до чего я дошла. Докатилась в своем безумии!
Я заглядываю в ящик. Там лежит карманный фонарик и маленькая тетрадочка. На титульном листе я прочел: «Азбука Морзе».
— Мы оба чокнутые, Оливер!
— Конечно.
— И горько поплатимся за то, что творим.
— Конечно.
— Счастливой любви не бывает.
— Конечно, конечно, конечно, — говорю я и наклоняюсь, чтобы поцеловать ее губы, ее прекрасные губы. Вдруг раздается стук в дверь, и сразу затем в комнату входит сестра Ангелика, лживо и похотливо смеясь.
— Вам пора. Ваша сестра еще очень слаба.
— Да, — говорю я, — мне правда пора (но из-за господина Гертериха, ведь уже половина двенадцатого). И вот я встаю, по-братски целую Верену в щеку и прощаюсь:
— Ну что ж, пока, малышка!
— Пока, малыш!
— Почему вы улыбаетесь, сестра Ангелика? — спрашиваю я.
— Ах, — отвечает она с улыбкой Мадонны, за которую я бы с удовольствием дал ей в зубы. — Привязанность братьев и сестер друг к другу всегда так трогает меня.
Я иду к двери. Там еще раз оборачиваюсь.
— Прощай, — говорит Верена. — И спасибо за цветы.
При этих словах она делает едва заметное движение рукой. Треклятая сестра его не замечает. Но я знаю, что этот жест значит. Таким движением Верена закрыла мне рот рукой, когда я хотел ее поцеловать ночью в машине (мы тогда еще искали браслет). И я тоже на секунду поднес руку ко рту. Сестра Ангелика ничего не заметила. Она уставилась на пациентку, как удав на кролика. Верена задвигает ящик тумбочки.
Не правда ли, забавно, как карманный фонарик и азбука Морзе могут почти свести с ума мужчину?
— Пока, сестренка, — говорю я и выхожу из комнаты, словно мужчина, выпивший пять двойных виски.
Глава 11
Взрослые!
К вам — наше слово!
Разве любовь — это преступление?
Удивленно вы покачаете головами.
Но вы осуждаете любовь пятнадцатилетней девушки к восемнадцатилетнему юноше!
Как вы возбуждены!
Чудовищно возмущены! Ведь в пятнадцать еще невозможно любить!
У вас еще море времени для любви, несмышленые непоседы! Вам ведь еще неведомо, что такое любовь. Вас следует отлупить по задницам!
А что, если у тебя будет ребенок?
Так говорите вы!
Ведь вы так хорошо понимаете нас. И нам следует быть благодарными за наших — таких дорогих — родителей и за наших — таких дорогих — учителей, за то, что они у нас есть!
У нас есть дрянь!
Ничего у нас нет!
Никого!
И вдруг мы находим друг друга.
А вы? Что делаете вы?
Вы тотчас отбираете нас друг у друга!
Двенадцать часов сорок пять минут. Я снова покорно лежу в постели в «Квелленгофе». Ноа принес мне из столовой еду в двух алюминиевых мисках. И этот странный памфлет.
Я великолепно управился по времени. Когда я вернулся домой, господин Гертерих скорбно взглянул на меня и сказал:
— По вашей милости я еще попаду к чертям на сковородку.
— Не попадете, — заверил я. — После еды я снова лягу, а вечером меня, послушного, осмотрит дядя доктор. Жар тогда уже спадет. Расстройство желудка. Такое бывает. Кстати, я слышал, Али вчера снова был с вами заносчив.
— Да, несносный ребенок… Потребовал, чтобы я мыл ему ноги.
— Позвольте только, господин Гертерих, я его проучу.