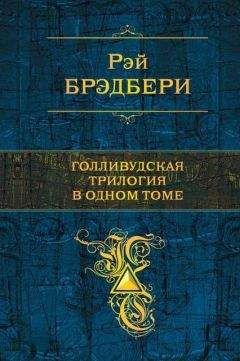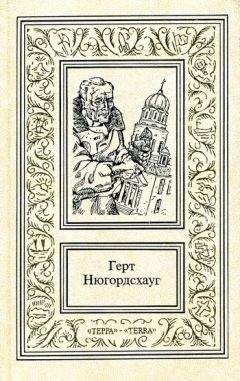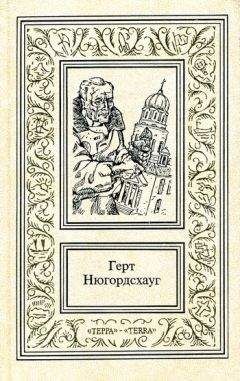Юрий Герт - Ночь предопределений
Обращаясь отчасти к тем, кто был в зале, отчасти к тем, кто, несколько растерянный, стоял в глубине сцены, Гронский коротко рассказал о гипнозе, вещи абсолютно безвредной и даже для многих полезной, подчеркнул, что необходимо полное доверие, полный контакт между гипнотизером и гипнотизируемым, и попросил неукоснительно выполнять все его требования, начиная с простейших… С того, например, чтобы вытянуть перед собой руки, сцепить пальцы и сжимать, сжимать ладони все крепче… «Крепче, еще крепче…» — повторял он, и Феликс вдруг заметил, что с силой сжимает лежащую на коленях сумочку Айгуль. «Да нет, — подумал он, — я-то здесь причем…» — «Крепче, еще крепче, — повторил Гронский. — А теперь ваши руки срослись, вы пытаетесь их расцепить, но не можете… Не можете!.. Ну, пробуйте, пробуйте же расцепить ваши руки!..»
Зал замер. Те, на сцене, стоя с вытянутыми руками, пытались расцепить переплетенные пальцы, — у одних на лице была растерянная улыбка, другие сосредоточенно тужились освободить руки от невидимых пут, третьи смеялись, потешаясь над собственной неловкостью. Впрочем, все длилось не больше минуты, может быть — двух. Гронский объявил, что на счете «три» руки разожмутся — досчитал до трех — и пальцы почти у всех сами собой разжались.
Зал, затаивший дыхание, казалось, шумно вздохнул единой грудью. Раздались аплодисменты, громкие и недружные, запрыгали по рядам, словно мячик по воде. Гронский поклонился. Он подошел к девушке в красной кофточке, коснулся ее лба указательным пальцем — и руки, которые она до того безуспешно силилась расцепить, распались, она удивленно разглядывала их, болтая в воздухе как бы затекшими кистями.
— Воланд! — сказал Карцев, смеясь. — Помните Булгакова?
— Ну, до Воланда ему пока далеко…
— Не скажите… Вы посмотрите, что делается…
Аплодисменты не смолкали. Гронский то наклонял, то взбрасывал руку, как бы стараясь от них защититься, но в ответ на каждое его движение они вспыхивали с удвоенной силой. Вернулся Бек: для дальнейших «опытов» были оставлены человек десять, по числу стульев, расположенных полукругом. Усевшись, Бек улыбался довольно обескураженно, еще, казалось, толком не осознав того, что произошло, и временами украдкой бросал взгляд на свои руки, разминая кисти точь-в-точь как девушка в красной кофточке… Та, кстати, осталась среди десяти и уже сидела в центре полукруга, между Айгуль и парнем с курткой.
У Феликса на коленях лежала тетрадь с переводом и сумочка, которую он не выпускал из рук. Внешне все выглядело как нельзя естественней: заезжий иллюзионист, завтра и след его простыл; Айгуль, скучая от скудной впечатлениями жизни, ради остроты и любопытства согласившаяся принять участие в незатейливом спектакле; он сам, позволивший себе слегка расслабиться в начале командировки, потратить еще один вечер, — так, ни на что… Но в душе он чувствовал какую-то смутную пока неслучайность происходящего, какой-то его скрытый, неявный смысл. Похожее ощущение возникало у него всякий раз, когда он прилетал сюда, где любой пустяк сразу приобретал масштабность, увеличивался, вырастал до символа… Так и теперь: помимо того, что разворачивалось в зале у всех на виду, совершалось еще и некое действо, в котором участвовали всего несколько человек… Среди этих нескольких была Айгуль, сидящая на сцене в своем белом, белейшем платье, обтекающем волнистыми складками ее ноги с крепкими точеными икрами; был он сам, сжимающий согретую его ладонью, но как бы хранящую прикосновение ее руки сумочку; и — между ним возвышающийся Гронский, после того пронзившего Феликса взгляда ни разу не посмотревший в его сторону… Последнее тоже настораживало, вовлекая Феликса в игру туманных предчувствий и совершенно абсурдных предположений…
Хотя, разумеется, само по себе это выглядело достаточно потешно — когда Гронский, с не покидавшей его деловитой легкостью, усыпил всех десятерых и принялся демонстрировать свои безотказно срабатывающие аттракционы…
Первой оказалась невысокого роста светленькая девушка с мелкими, неприметными чертами, — уже по ходу разговора между нею и Гронским Феликс припомнил, что видел ее в прошлый приезд на выдаче книг в городской библиотеке, где просматривал местную периодику… «Вы любите цветы? — скорей утвердительно, чем вопросительно произнес Гронский. — И особенно розы, правда? Взгляните, какая чудесная красная роза! — Он протянул ей пустую руку. — Вы чувствуете, как она пахнет?.. Держите, я дарю ее вам!» — Она так глубоко дышала, так упоенно вбирала в себя аромат несуществующей розы, такое блаженство трепетало в ее опущенных от, казалось, томного наслаждения бледных, а вблизи, наверное, голубоватых веках, что хотелось уличить обоих в сговоре и обмане. «А теперь осмотритесь, сколько роз цветет вокруг! Рвите, только не наколитесь, будьте осторожны! Вы соберете роскошный букет, принесете домой и поставите в воду!» — Приседая, она срывала несуществующие розы, накалывалась на несуществующие шипы, и щеки ее, и остренький носик щекотали несуществующие нежные лепестки, когда она погружала лицо в несуществующий букет… Здесь все было несуществующим, только радость, подрумянившая бледное личико, на которое сейчас словно падали отсветы пурпурно-бархатных роз, была несомненной, подлинной, и Феликсу — второй раз в этот день — вспомнилась девушка в самолете, с подвявшими цветами на коротких стеблях, обмотанных быстро сохнущим платком…
Библиотекаршу, которая опустилась на стул все с той же тихой, озаряющей все лицо улыбкой, сменил парнишка в очках, похожий на прилежного студента-первокурсника. Он удил рыбу. Под хохот умиравшего со смеху зала, он, стоя посреди сцены, на том месте, где только что благоухали розы, засучил штанины до колен, чтобы не замочить их водой, и принял классическую позу рыболова, с вытянутыми вперед руками, чутко ловящими малейшую дрожь удилища… «Что же вы?.. Тяните, клюет!..» — вскрикнул Гронский, и рыболов таким умелым, подсекающим движением рванул удилище, что будь то на самом деле, рыба наверняка трепыхалась бы у него на крючке. Впрочем, парень в очках уже держал в руке, запустив пальцы под скользкие жабры, пойманного судака, охотно соглашаясь с Гронским, что тот весит не меньше пяти кило. «А может, и побольше?» — весело переспросил Гронский, поднятой рукой утихомиривая зал. — «Может, и побольше», — помолчав, проговорил парень. «Пожалуй, в нем будут и все десять килограммов, а?» — сказал Гронский, озорно подмигивая залу. — «Да, десять», — согласился рыболов, и рука его опустилась вдоль бедра, как бы ощутив увеличившийся вес. Лицо парня, в котором было вначале что-то робкое, неуверенное, теперь сияло самодовольством. «Вам все станут завидовать, — говорил Гронский. — Покажите нам, вашу рыбу, не прячьте ее!» — Улыбка — широкая, глуповатая, от уха до уха — не сходила с лица рыболова. Он стоял, вытянув перед собой руку со сведенными в горстку концами пальцев, в которых, представлялось ему, на кукане бьется всем на зависть невиданная, восхитительная добыча…
Феликс не мог удержаться и смеялся со всеми. Но при этом какое-то тяжелое, гнетущее чувство копилось у него в груди. Он смотрел на Гронского, такого импозантного, с его скупыми, точными жестами, с медвежеватой грацией человека, в совершенстве управляющего своим телом, даже если оно велико и громоздко, на сдержанную, одновременно и дружелюбно-веселую, и мрачноватую, даже зловещую, как бы в два слоя, улыбку, не покидавшую его губ, — и словно каменные плиты, одна поверх другой, давили на него, грозили расплющить…
Это чувство возросло, когда Гронский перешел к следующим аттракционам — так Феликс про себя именовал демонстрируемые «психологические опыты».
Тот увалень, который проследовал на сцену вместе с девушкой в красном, сосредоточенно боксировал, нанося удар за ударом в пустое пространство, при этом лицо его, с короткими, в черную щетинку, усиками выражало крайнюю свирепость. Молодая женщина, нервная, с бурыми пятнами на впалых щеках, металась по сцене, визгливо взывая «милиция!.. милиция!..» — она работала в сберкассе, и вот теперь ей было внушено, что сберкасса ограблена, сейф взломан… Мужчина средних лет, с рябым добродушным лицом, захлебывался от беспричинного смеха, приседал, хватался за живот, утирая слезы — и за ним хохотал, надрывался весь зал…
Феликс ждал, когда настанет очередь Айгуль, ждал с трепетом за нее — и с холодным, жестоким любопытством… Наблюдая за Гронским, он испытывал попеременно то восхищение, то отвращение к этому человеку, так умело и легко распоряжавшемуся своим всесилием, своей властью над теми, кто согласился ей подчиниться…
Теперь в его жестах, его уверенных, резких движениях ощущалась молодая упругость, во всем светящемся изнутри облике — упоение и торжество… Может, он и живет-то ради этих минут, мелькнуло у Феликса.