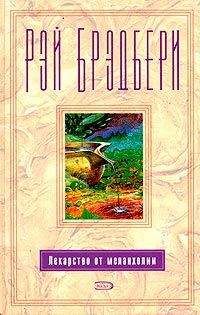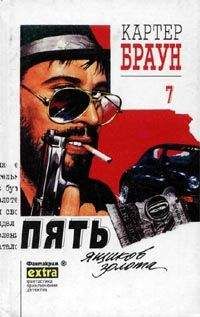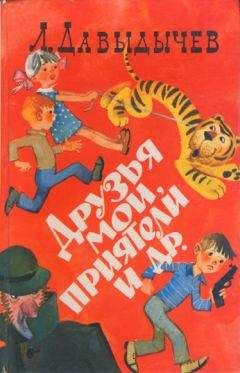Юрий Арабов - Биг-бит
— Я вообще уроки не делаю, — ответил Фет.
— А как же ты будешь сниматься в моем фильме, не делая уроки?
— Так меня же того… Бортанули!
— Пробил. Пробил я тебя, — и Станислав Львович вычеркнул ручкой очередной диалог.
Все это было слишком фантастично, чтобы сойти за правду. Фет стоял мрачный, насупленный и не находил в душе сил, чтобы лезть на стенку от радости.
— К битлам поедем? — только и спросил он.
— Поедем, — пообещал дядя Стасик.
Фет уже хотел ретироваться, потому что любые слова в этой ситуации были лишними. Но все-таки не выдержал.
— А что, я в самом деле так хорошо играю?
— Играешь ты ужасно, — сообщил сквозь зубы Станислав Львович.
— И на гитаре?
— Здесь я не специалист.
— Тогда зачем… Зачем все это?
— В тебе есть что-то. Внутри. Майский жук в спичечной коробке. Нужно помочь ему выйти наружу.
— Понимаю, — ответил Федор.
Он вспомнил, что в детстве подходил к березе и тряс ее за ствол. Было это в насаженном скверике недалеко от Северного входа ВДНХ. Майские жуки со стуком валились на землю, как спелые орехи.
— А ведь это вы… Вы отправили в Лондон мою запись?
— Какую запись? — спросил режиссер-коммунист.
Фет понял, что его так просто не расколоть, это была гвардия сталинских соколов, бравшая любые крепости и не любившая на этот счет излишней рекламы.
— Тогда я пойду, — сказал мальчик. — Что от меня требуется?
— Сиди на телефоне и жди дальнейших указаний.
Федор, не прощаясь, вышел в коридор. Навстречу ему спешила женщина трудной судьбы. Складки платья ее развевались, как на фее, вокруг головы синел ареол сигаретного дыма.
— Станислав Львович поручился за тебя партбилетом! — прошептала она в ухо Федору.
— Ну и зря, — заметил мальчик.
«Если мне надо сидеть на телефоне, — думал Фет, уходя со студии, — то, следовательно, нужно иметь крепкий телефон, чтоб на него взгромоздиться. Для этого надо возвращаться домой».
Он представил себе, что сидит на телефоне, как на горшке.
— Уже? — спрашивает из коридора мама.
— Нет еще, — важно отвечает Фет.
Так происходило давным-давно, в пятиметровой комнате двухэтажного барака, где они жили до переезда в студийный дом.
Но возвращаться к Лешеку не хотелось. Можно было сидеть лишь на другом телефоне, например, на телефоне в клубе, но как тогда позвонит дядя Стасик? Чувствуя, что не в силах разрешить эту алгебраическую задачу, Федор вступил в свой двор.
Увидел, что навстречу ему идет отец, а за ним бегут бездомные дворняжки, три рыжих шавки, преданно заглядывающие в глаза. Отец вынимает что-то из кармана своих штанов и бросает им. Это окровавленный кусок мяса. Собаки начинают драться за него, лаять и выть. Из детской песочницы поднимается желтая пыль.
— Идти мне домой или нет, как ты думаешь? — спросил родителя Фет.
— Часа через два, — сказал Николай, обтирая о штаны остро заточенный нож. — Когда все кончится.
Не объясняя своих слов, ушел через подворотню на улицу.
Мимо пробежал парень из пятого подъезда, долговязый и с зеленым лицом, имени которого Фет никогда не знал. Кличка его была Огурец.
— Там человек… На карнизе! — сообщил он.
По-видимому, на внешней стороне дома, выходившей к конечной остановке 48-го троллейбуса, творилось что-то необыкновенное. Фет решил последовать за Огурцом, тем более что этим он оттягивал позорное возвращение праведного пасынка к блудному отчиму.
Прошел подворотню. Увидал у тополей небольшую кучку встревоженного народа. Граждане задрали головы вверх, подставляя солнцу лбы, и поначалу Фет подумал, что они высматривают какого-нибудь попугая или другую экзотическую домашнюю птицу, вылетевшую на волю через форточку.
— Сейчас упадет! — донеслось до его ушей.
Фет поглядел в небо.
На балконе пятого этажа стоял Лешек в пижаме. Он держался левой рукой за пах. Даже издалека было заметно, что штаны его забрызганы чем-то красным. Отчим, по-видимому, решил спрыгнуть вниз, потому что перелез через перила балкона и пробовал ступней воздух, как пловец пробует гладь воды — с недоверием и поеживаясь.
— Алеша! — истошно и нервно крикнули над ухом. — Алеша, открой дверь!
Фет узнал голос, это была его мать.
— Он запер дверь на цепочку и не открывает! — объяснила она собравшимся.
Зачем объяснила? Что, это были ее друзья или народные заседатели в горсуде?
— Надо вызвать пожарных! — заголосила толпа, и кто-то уже ринулся к телефону-автомату.
— Зачем пожарных? Он же не горит, — подал голос Федор.
— И пожарных, и милицию, и «неотложку»! — не согласилась мама. — Не надо этого делать, Алеша! — снова крикнула она в синеву. — Жизнь прекрасна, слышишь?! Я давно тебе все простила!
— А простил ли я тебе? — вдруг раздался голос с птичьей высоты.
Наступила тягостная пауза. Мама передернула плечами, будто выходила из теплой воды на холодный воздух.
— Он тебе чего-то не простил, — уточнил низкорослый мужичок в кепке, наводя театральный бинокль на интересующий его балкон.
— Простил ли я тебе, что никогда не получал удовольствия? — прокричал Лешек.
И эхо от дома многократно повторило последнее слово: «…вольствия», «…ствия», «…я».
— Но это же интимная тайна! — попыталась устыдить его мама. — Как ты можешь?
— Да не кончал я, не кончал! — заорал с балкона отчим. — И ты не кончала! Никто в этой стране не кончал!
— Он сошел с ума, — повернулась она к окружающим. — Вы видите, мужчина бредит!
— Почему бредит? — заступился за Лешека интеллигентный гражданин в шляпе. — Зачем нам замазывать противоречия? Плохо поставлено в нашей стране удовольствие!
— Ну и подлец ты, Лешек! — прокричала мама в небосвод.
— Что? — не расслышал он.
— Подонок! — уточнила мама. — Иуда! На кого ты нас оставляешь? добавила она.
— На кого придется! Кто вас возьмет, на того и оставлю!
— И совесть не будет мучить?
— Ни капельки!
Он отодвинул руку от своего паха.
— Кровоизлияние! — ахнули в толпе.
— …Мам, слышишь, мам? — Фет дернул ее за руку и прошептал в ухо: Это еще можно пришить. Это — у собак! В случае чего, можно заказать протез, как у дяди Стасика!
— Замолчи, идиот! — отмахнулась в угаре женщина, ничего не поняв. — Ну и прыгай! — заорала она в вышину. — Если ты такой подонок, то прыгай!
— Значит, прыгать? — потребовал уточнения Лешек.
— Прыгай, прыгай! Не жалко!
— Ладно…
Лешек огляделся вокруг.
Непыльное солнце начальной летней поры висело над Выставкой Достижений Народного Хозяйства. Из Ботанического сада были слышны соловьи. По полупустой улице около дома проехала поливочная машина, обдав зеленеющие газоны брызгами водопроводной воды.
— Прощай, старик, — сказал Лешек, обратившись к одинокому облаку. Пилоты благодарят тебя за все. Ничего хорошего, правда, и не было. Только война, пьянство, сифилис и бескультурье!
Всхлипнул.
— Стой! — истошно крикнула мама, поняв, что шутки кончились. — Христом Богом прошу тебя, остановись!
От имени Христа отчима передернуло.
Лешек прыгнул.
Глава тринадцатая. Пусть так и будет!
Джон Леннон открыл глаза и увидел перед собой чью-то спину с мелкими черными родинками, похожими на виноград без косточек, который он мог поглощать в неимоверных количествах, заедая шоколадом «Херши».
Пагубная привычка к сладкому появилась у него четыре года назад, совпав с первыми кислотными путешествиями, предпринятыми под присмотром одного дантиста, — Джону понравилось в основном то, что слова в его голове после этого начинали налезать друг на друга, как быстрые муравьи, и спариваться, словно мудрые улитки, а когда слова плюют на своего хозяина, брюхатят и приносят приплод, для Леннона это значило жизнь. Новые слова и внимание к своей персоне давали ему стимул к творчеству, когда же внимания и новых слов не было, Джон высыхал подобно ручью. Альтернатива наркотикам была (и Джону об этом тоже сообщили врачи) — трепанация черепа, небольшая дырочка в области третьего глаза, операция неприятная, но полезная, призванная расширить сознание и закрутить пошлые обыденные слова в чертов узел. Но Буга сдрейфил, услыхав о подобной возможности, побледнел и отшутился. Джордж начал совать под нос свои мантры как более безопасный способ приближения к Абсолюту, а Рич купил себе очередную кинокамеру. В провале идеи трепанации виноват был, конечно, Буга-Мака, этот проклятый конформист, не желавший ничего расширять за счет своего драгоценного здоровья. Буга мыслил гармонией, и для него, возможно, дыра в голове не имела особого смысла, но для Леннона она была необходима как воздух. Однако снаружи и в одиночку долбить череп не хотелось, поэтому Джон Большое Яйцо решил долбить его изнутри всякой химической дрянью: авось, место освободится, и под коробку залетит какая-нибудь свежая идея. Вообще идей было много, например, перемирие во Вьетнаме или прилет в Канаду на летающей тарелке, спроектированной одним недоучившимся инженером. Но все это было не то. Абсолют, вот что мучило и не давало покоя. Джон, в отличие от наивного Харрисона, так и оставшегося для всех троих младшим братом, которого можно было не принимать в расчет, конечно же, не верил ни в каких богов, потому что сам был богом, особенно тогда, когда брал в руки гитару, хлебнув перед этим виски с растворенной внутри химией. Однако он допускал вероятность, что чего-то не понимает. Время от времени Леннон примерял на себя кое-что известное всем: около суток он старался быть Христом, но поняв, что не может побороть раздражения к Полу и особенно к своей толстой Син, с которой соединился в зеленой юности, завязал с христианством. В Индии он немного побыл Буддой, не реагируя даже на кровососущих насекомых, круживших над его головой. Но и здесь его вывело из себя скотство Учителя Блаженства, и с Буддой было покончено. Сейчас же, с помощью кислоты, Джон освобождал в голове место для искомого Абсолюта, по-видимому, безличного и равнодушного ко всему. Абсолют не являлся, место оставалось вакантным, но зато слова копошились и пользовали друг друга, как могли. И этот минимум устраивал Леннона.