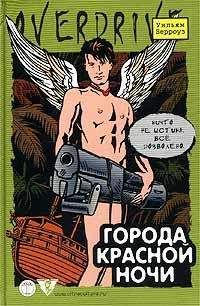Александр Проханов - Кочующая роза
— В атаку! Вперед!
Звякнув пулеметами, бойцы поднялись, неуклюже пошли, разминая грунт сапогами, скрипя на разноцветных камнях. Бурлаков двинулся следом, глядя, как долгополо мотаются их шинели, постукивают фляжки и лопаты на поясе.
— Шире шаг! Держать равнение в цепи! — подгонял он их.
Двинулись шире, ровней, выставив вперед пулеметы. Седых перескакивал ловко маленькие рытвинки. Огромный Маланьин оглядывался на него, держа равнение, колотил сапожищами по камням.
— Внимание! Появилась первая цель! Гранатометчик, у края оврага! Точка прицеливания — под обрез! — командовал Бурлаков.
Они упали, заерзали животами, выталкивая вперед пулеметы, прижимаясь щеками к черненой стали. Щелкали спусками, снова поднимались, двигались по цветным камням.
— Шире, шире шаг! Продолжать движение!
Он шагал следом за ними, заложив руки в карманы плаща, чувствуя над собой огромность бледных небес, в которых летела стая мокрых скворцов, туда, на север, где в длинных проталинах зеленеет холодная озимь, ольховый туман по опушкам, ветер прижимает к земле сырые дымы деревень. А здесь, в азиатской степи, он ведет по склону солдат, атакуя незримую цель, готовую обернуться встречным, бесчисленным валом. И будет все точно так же: размытые, неясные дали, скрипучие древние камни, звяканье фляжек, лопат и стая пролетных скворцов.
— Появилась вторая цель! — командовал он. — Справа пулеметный расчет! Расстояние — пятьсот метров! Точка прицеливания — под обрез!
Они снова упали, выставив локти. Маленький, ловкий Седых сжался в твердый комок, слился весь с пулеметом. А Маланьин лапал огромными обветренными ручищами магазин и приклад, целился влажно мерцающим синим глазом.
Звякнули сочно затворы. Солдаты вновь устремились вперед.
— Ровнее, ровнее! Держать дистанцию!
Бурлаков глядел на их спины, на полы сырых шинелей и думал, что связан с ними неведомой, не имеющей имени силой, создавшей их в одно время из этих небес и земли, вскормившей у материнских сосков, пустившей по склону в атаку. И их старые бабки из всех деревень, городков, через степи, горы и ветры крестят их слабой рукой, осыпая скворчиными стаями.
— На рубеж двадцать метров броском, марш! — резко выдохнул он.
Они побежали, подпрыгивая, делая на бегу повороты, уклоняясь от невидимых пуль. Неслись на последнем рывке и дыхании, на последнем отрезке атаки, врываясь в визг рукопашной, Бурлаков торопил их на враждебное, орущее скопище, сквозь последнюю страшно сладкую грань, отделявшую жизни от жизней. Вырывался на высшее ее острие. Очнулся. Встал, задыхаясь.
Они стояли, все тяжело дыша. Маланьин слизывал кровь с разодранного кулака. Седых, облизывая пересохшие губы, поддерживал его пулемет. Близкая отара надвигалась на них, с блеяньем выщипывая жесткие травы. Ягнята скакали, припадая к соскам тяжелых, пыльно-желтых овец.
Второй взвод на равнине проходил обкатку танками. Из полка пришли две машины, промяли колею. Откатили в сторону, ожидая команды по рации. Тронулись с места, стуча гусеницами, подымая синюю гарь, струи грязи, осколки камней. Бурлаков подымал солдата с гранатой, посылал под танк. Тот, пригнувшись, бежал, попадая в мертвую, недоступную танковым пулеметам зону, ложился в проем колеи, прижимался. Гора дымящей брони прокатывалась над его спиной, вминая, прессуя его. Но он, уцелевший, живой, вскакивал, швыряя гранату в корму прошедшего танка.
Бурлаков подымал солдат, видя их страх и смелость. Их муку и молодечество. Их бледность и мгновенный румянец. А возвращаются назад в полный рост, уже другими, с новым пониманием себя, в чем-то богаче, а в чем-то беднее, оставив что-то навек под грохочущим танком.
Танки прошли, развернулись. Застыли поодаль, ожидая сигнала. По рации он вызвал передний. Машина двинула с места, скребя колею гусеницами.
— Следующий! По танку гранатой — огонь!
Маленький юркий казах Асанкандыров вскочил, сжимая гранату. Бросился, пригибаясь, крутя головой. Приблизился к проходящему танку. А потом шарахнулся, отвернулся и сел в сторону, пропустив машину, прижимая ладони к лицу.
Солдаты, те, что прошли обкатку, гоготали:
— Асанкандыров отдохнуть решил!
— Да он, вишь, молится!
— Это тебе не верблюд!
Бурлаков подошел к сжавшемуся, остроплечему казаху. Тронул его за плечо.
— В чем дело, Асанкандыров?
Тот оторвал от глаз узкие смуглые девичьи ладони. Поднял на Бурлакова черноглазое, округло-скуластое лицо.
— Не могу! — сказал он.
— Почему? — строго сказал Бурлаков.
— Боюсь!
Бурлаков стоял над поднятым его лицом, приплывшим сюда, к этим траншеям, ревущим моторам, орудийным стволам, из далеких белесых степей в волнистых ветряных гривах, где редкие юрты стоят на раздолье, и на войлочной узорной кошме расставлены цветные пиалы, разложены лепешки, конфеты, и в зелени вечерних небес — молодая над степью звезда, маленький красный костер, и дрожание струны на тонкой перламутровой деке, и пение об этих травах, степях, о первой в небе звезде.
Бурлаков все это увидел, растерялся на миг, не зная, как быть с его нежным, детским лицом.
— Асанкандыров, возьми себя в руки! Казахи смелые люди! Солдаты отличные! Степняки выносливые! С Панфиловым сколько казахов пришло под Москву! Танки бутылками жгли! Ну, Асанкандыров, вставай!
— Не могу! — крутил головой солдат. — Страшно!
— Чего тебе страшно? Под днищем зазор, не заденет. Это он с виду, на подходе страшный. А почувствуешь его, поймешь, подловишь на мертвой зоне — и он в твоих руках. Наколешь его, как жука на булавку. Ну?
— Не могу!
Раздражение к нему и жалость. Любовь, понимание его. И командирская забота о нем, знание его и себя. Все чувствовал к нему Бурлаков.
— Асанкандыров, смотри сюда! — сказал он. — Делай как я! За мной, шагом марш!
Он вышел на танковую колею, лег и его уложил. Солдат распластался сзади, лицом у его сапог. Бурлаков приподнялся, махнул. Танк заворочал башней, стал надвигаться. Увеличивался, колыхая пушкой на выпуклом бронированном лбу. Накатывался ромбом носовой брони.
Бурлаков чувствовал грудью дрожание земли и сзади себя солдатскую жизнь, затихшую в ужасе.
— Лежи! — крикнул он сквозь грохот.
Танк накатил, как огромный стучащий молот, закрывая все небо, вколачивая их в твердь. Брызнули камни. Лицо обдало жирной вонью. Масса прошла над ними, открывая свет и траву. Удалялась в размытой гари.
Бурлаков оглянулся. Асанкандыров лежал как лист. Потом едва шевельнулся. Отжался на тонких руках. Вскочил и кинул в хвост танку гранату. Обернулся к командиру бледным лицом.
Бурлаков кивнул ему и пошел не оглядываясь. Знал, что тот идет за ним следом, уже другой, измененный.
Его день завершался. Ледники на горах слабо розовели слюдяными жилами. В огневом городке он следил за прицельной стрельбой. Боевые машины пехоты стояли на круглых поворотных платформах. Вращались, колыхая кормой, имитируя движение по трассе.
Десантники по команде вставляли в бойницы стволы автоматов, били по дальним мишеням, брызгая гильзами.
Операторы в башнях ловили в голубоватую оптику контуры танков и транспортеров и одиночными пулеметными выстрелами срезали их на далеком в вечернем солнце откосе.
Бурлаков слушал грохот залпов. Глядел в раскрытые боевые машины, в их глубокие, перевитые пуповинами чрева, мигающие цветными огнями пультов. Чувствовал их сложность и простоту, каждый узел и сочленение, хрустали прицелов, инфракрасные глазницы в броне. Он любил их мощь и таранную силу, когда мчатся на своих гусеницах, окутываясь ливнем пуль, создавая смерч наступления. И броневую их твердь в обороне, когда грохают башенной пушкой, поджигая танки, выстригая пулеметами атакующий вал врага.
Он понимал холодную ярость современного инженерного боя, как взлет электронной кривой. Но в этой технике боя, запущенного с командного пульта, он верил в случайность и счастье своей личной судьбы и воли, которые на последнем переломе сражения вырвут победу.
Горы в заре мерцали бело-розовыми знаменами. Бурлаков захотел проехать по сопкам, по местам прошлогодних учений, куда завтра поведет свою роту.
Он взял с собой операторов. Сам сел на место водителя. Двинул машину в горы.
Горячий мотор легко прошибал холмы. Бурлаков плечами и грудью чувствовал вращение предгорий. А лбом — холодные свежие струи с ароматами первых цветов. Вспыхивали склоны в соцветиях, лиловых и острых, как пламя, и белых, как легкие звезды. Хребты отекали малиновыми реками льда. На мгновение раздвигались занавески холмов, и внизу, в глубине, открывались долины. И он вел над ними машину, как самолет.
Ему казалось: из неба вырвался тонкий луч, упал на него и следит, как яркий напряженный зрачок.
Он подумал вдруг о жене, испытав к ней мгновенную нежность сквозь броню и полет. Ощутил совсем близко ее тонкое тело, ее прозрачное, невесомое платье. Подумал грустно и сладко: так и будет всегда поджидать, пока носит его по ученьям, маневрам и бог весть еще по чему.