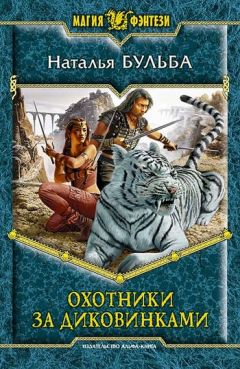Энтони Берджесс - M/F
— Но вернемся к сегодняшнему радостному событию.
Была ли это намеренная ирония? С приближением момента не-истины я постарался не слишком шататься и стоять более или менее прямо, а Катерина и так была как деревянная. Доктор Фонанта заранее напичкал ее лекарствами из черного чемоданчика, который его громила-шофер притащил из машины. Помимо сфигмоманометра и клизмы в чемоданчике был большой выбор разнообразных пилюлек. Одна из наездниц, с откровенно распутным лицом и волосами мадонны, ухмыльнулась мне, в связи с чем — плюс еще вид ее бюста и бедер, плюс еще общая похотливо-разгульная атмосфера, свойственная любой свадьбе (а тут были вдобавок огромночленные звери, пусть даже и в клетках, и мирные слоны, чьи долгие и обстоятельные копуляции могли бы стать темой для краткой каденции в проповеди отца Кастелло, причем на совершенно законных основаниях, поскольку о них говорил сам кардинал Ньюмен[27]), — так вот, в связи со всем перечисленным выше, я обнаружил, что кое-что у меня все-таки встало прямо, но очень локально и, вероятно, наглядно для тех, кто стоял близко, поскольку штаны лучшего костюма Лльва сидели на мне в обтяжку.
Брачный обряд отца Кастелло был либо чем-то совсем уже новым и экуменическим, либо его собственным сочинением. Меня спросили:
— Согласен ли ты, Ллевелин, ввести эту женщину, Катерину, в супружеский храм, кормить ее и оплодотворять, ублажая, одевать ее и украшать, делать все, чтобы сон ее был спокойным и крепким, а пробуждение — приятным, пока время не ослабит узы, пока гирлянды не станут цепями, пока дружество не обернется враждой?
Что я мог ответить, кроме того, что согласен?
— Согласна ли ты, Катерина, принять этого мужчину, Ллевелина, дабы стал он тебе основанием и опорой, спутником и покровителем, прибежищем и поддержкой, источником радости и раздражения, хлеба и многих плодов в твоем чреве, пока любовь любострастна, а страсть не стала напастью?
Возможно, я не совсем точно помню, что он говорил. Катерина, как и всякая нормальная невеста, боролась с сухими слезами и не отвечала. Отец Кастелло ласково проговорил:
— Смелее, дитя.
Катерина вроде бы кивнула, что сошло за согласие. По знаку отца Кастелло мистер Дункель передал мне кольцо, купленное доктором Фонантой, и отец Кастелло провел мою руку с кольцом от Катерининого большого пальца к безымянному, произнося определенную фразу над каждым пальцем, пока не дошел до нужного:
— Отец будет домом тебе, Сын — столом, Дух Святой — веющим ласковым ветром. Священное таинство свершилось: вас было двое, а теперь вы — одно.
Произнеся эту последнюю фразу, он продел Катеринин палец в кольцо, оказавшееся чуть великоватым. Цирковой оркестр, расположившийся прямо на манеже, грянул свадебный марш, которого я раньше не слышал:
Адерин холодно поцеловала нас обоих, вся честная компания устремилась к буфетным столам, а Дункель оттащил меня в сторону, вроде как для личного благословения:
— Ладно, паршивец, теперь ты, надеюсь, завяжешь со своими вонючими играми и раздолбайством. С виду она не особенно. Хоть убей, не пойму, как ты вообще с ней связался. Уж наверняка через какую-то похабень, как обычно. Впрочем, ладно. Но это лишь потому, что твоя мать очень-очень просила, а так я бы не согласился. В общем, бери его на ночь, только чтобы все было чисто, понятно, свиненыш?
— Да пошел ты, жиртрест, — дружелюбно откликнулся я. — Чего, на хрен, на ночь, кого его?
— Мой трейлер, — сказал Дункель, излучая ненависть сквозь очки с круглыми стеклами. Он был немного похож — может быть, из-за этих очков — на Пина Шандлера, только постарше. Я как-то даже соскучился по этому гаду в господнем исподнем, тосковал по нему, как по безынцестному дельфиньему морю свободы, и одновременно думал о том, что вокруг развелось как-то чересчур много копий и дубликатов, как будто наш со Лльвом дуэт заразил окружающий мир, и одновременно думал о том, что у Дункеля нет никаких прав на трейлер, раз он работает и ночует в гостиничном номере.
— Чтобы все было чисто. Понятно, паршивец? — повторил он и ушел к столам, где вся честная компания уже звенела бутылками и стаканами.
— Да, чисто, — ответил я совершенно серьезно. Сегодня ночью ничто не прольется и не изольется. Будет всенощное бдение над радиоприемником, который я позаимствую вон у того юного выгребателя слоновьего дерьма, который слушал поп-музыку, весь в себе, не обращая внимания на грохот оркестра. Скоро должны прийти новости, а вместе с ними и объявление, что выезд с Каститы открыт.
Но сперва надо было еще пережить свадебное веселье. Адерин замечательно все подготовила. На столах было достаточно угощения: джин, виски, вино, ведерки со льдом, «Куку-кугу», сандвичи и даже импровизированный свадебный торт — вишневый, в сахарной глазури, с двумя целлулоидными пупсами, весьма уместно бесполыми. Великолепный Вертитто в облегающих, расшитых тесьмой рейтузах и коротком бордовом жакете фасона, который в народе зовут «жопамерзнет», обжирался хлебом. Я сказал улыбаясь:
— Вот и тарелки твои пригодились, а?
— Figlio d’una vacca puttana troia, stoppati il culo.
— Как-то нехорошо ты сказал о моей маме. Хрен тебе в рыло, мудила чесночный.
Как оказалось, немало простых циркачей были готовы окрыситься на меня или же обсмеять, причем на самых разных языках. Один мускулистый блондин, воздушный гимнаст по имени Карл, плевался слюной и умляутами из темной финской ночи; похожая на школьную учительницу строгая дама, дрессировщица тюленей (которых уже отправили на боковую; было слышно, как они грустно ревут в бассейне, не допущенные к веселью), язвительно заговорила со мной, кажется, на измельчавшем языке Софокла. Что ж, может быть, бедняга Ллев и заслуживал подобного к себе отношения, но он за все расплатился сполна. Вообще по идее это был как бы мой долг: устроить для этих людей искрометное представление, в этот финальный или постфинальный выход, с полным богатым ассортиментом похабщины из репертуара никчемного мертвого парня, — но у меня не хватило духу. Как-то вяло, почти смиренно я пожелал укротителю львов (опять львы, кругом одни львы, от Лёве и дальше) подхватить вшей от своих старых паршивых чесоточных кошек с немытыми гривами, а заодно и заразиться по новой тропическим сифилисом. Я увидел, как одна из наездниц увела Катерину в сторонку — видимо, обучить технике уклонения от моих грязных домогательств. Адерин, чей больной глаз с виду стал еще хуже, величаво потягивала неразбавленный джин со льдом в компании инспектора манежа, который снял свой корсет и теперь с облегчением почесывал освобожденное пузо. Я пошел к клоунам, которые, так и не сняв помидорных носов, спорили о метафизике с Понго (он же отец Кастелло). Может быть, у него тут была подпольная семинария. Оркестр заиграл неуклюжий вальс, тяжеловесный и вялый, тромбон пускал газы, кларнет явно страдал диареей. Укротитель львов пустился в пляс с дрессировщицей тюленей. Почти беззубый погонщик слонов заставил Джамбо — или Алису — встать на задние ноги и танцевать, шевеля шибким хоботом. Но это было все равно что говорить о работе на отдыхе, поэтому вскоре все прекратилось. Спиртное отчасти смягчило общую ко мне неприязнь, так что враждебность сменилась презрительной жалостью. Один из клоунов, прервав свою критику кантовской Ding an sich[28], сказал мне:
— Вот ты и причалил, Kerl[29].
Все-таки есть справедливость на свете, и больше я ничего не скажу.
— Если у мужа восстало, — подмигнул отец Кастелло, — оному должно излиться.
Я увидел, как одна из наездниц — та самая, с откровенно порочным лицом, волосами мадонны и голой спиной — отходит от стола, держа в руке сандвич. У мужа восстало, да. Я бы с ней потанцевал, с этой девчонкой, чтобы скрыть то, что восстало при виде ее и что восстанет еще заметнее, когда к ней прижмется. Грубо и пошло, согласен. Но я был Лльвом. Но также и Майлсом. Интересно, а Ллев бы набросился с таким пылом на мою аппетитную напарницу по протесту? Мне почему-то вдруг вспомнилась хозяйка «Батавии», как она говорила про послепослезавтра. Что там было за слово? И зачем мне его вспоминать? Я подошел к девушке и сказал:
— Потанцуем, а? Ну, типа, в последний раз. В память о прошлом, и все дела. Я же могу получить удовольствие, не?
— Потанцуем? Но ты ж не танцуешь.
У нее был акцент того типа, который мне нравится меньше всего: провинциальный британский, вышедший в большой мир через Америку. Но разве станет мужчина раздумывать, что перед ним — величайшее благо или безмерное бедствие, — когда его руки дрожат, устремляясь к этим чашам услады, к этим лакомым твердым, но нежным изгибам в серебряных блестках? Я сказал, задыхаясь:
— Так я, в общем, не танцевать. Просто хочу подержать тебя, типа, в объятиях. В последний раз, так сказать, перед мраком женитьбы целиком ради денег.