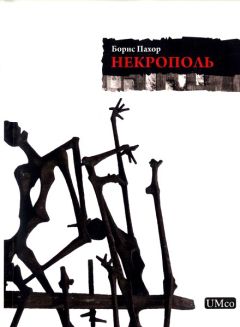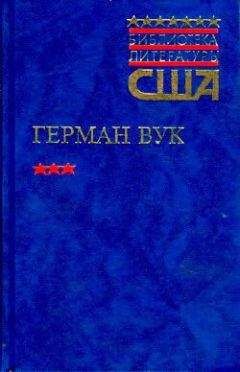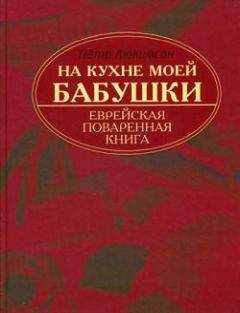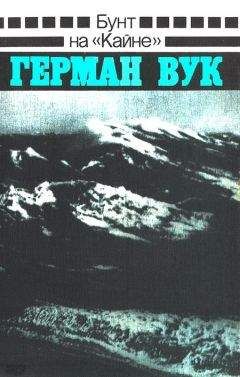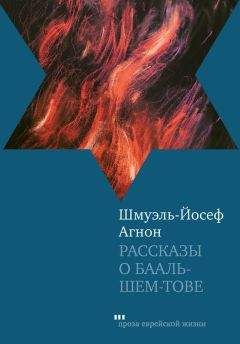Герман Вук - Внутри, вовне
— Но чем плоха фейдеровская ферма?
— Снова фейдеровская? Чтобы он там все лето носился как угорелый с этим шалопаем Гарольдом?
Мы с моим кузеном — «шалопаем» Гарольдом — уже несколько лет проводили летние каникулы вместе с мамой и тетей Соней на фейдеровской ферме в горах. Это было чудесное место, которое еще больше оживляли резвушки дочери Фейдера. Прошлым летом с одной из этих дочерей у Гарольда произошел какой-то темный инцидент, ему всыпали по первое число, и с тех пор его у нас называли не иначе как «шалопай Гарольд». Гарольду, как и мне, было тогда девять лет с небольшим, из игры в доктора и пациентку он уже вырос, а на что-нибудь более непотребное он еще едва ли был способен. Насколько я помню, дочь Фейдера тоже получила взбучку, так что, наверно, и она была не без греха, да еще сама же, наверное, Гарольда в это втравила. Во всяком случае, главным доводом в пользу летнего лагеря мистера Уинстона было то, что там я буду не вместе с «этим шалопаем» Гарольдом. Конечно же, мама не могла предвидеть, что в летнем лагере я познакомлюсь с Питером Куотом.
Папа ушел. Я наскоро сделал домашнее задание, возбужденный от того, что к нам домой придет «Дуглас Фэрбенкс», хотя мысль о летнем лагере отнюдь не приводила меня в восторг. Дело в том, что я был домашнее растение, игры на свежем воздухе мне были не очень по нутру. А вот «этот шалопай» Гарольд был совсем другого поля ягода — его хлебом не корми, а выпусти порезвиться. Он состоял в бойскаутах. Он и меня уговорил ходить в туристские походы с его скаутским отрядом, но ничего путного из этого не вышло. В первом походе я споткнулся и скатился вниз по склону, покрытому колючками и терновником, и ударился головой о камень. Вожатому скаутского отряда пришлось отвезти меня в больницу, где мне наложили швы; он по этому поводу отпустил обо мне какие-то обидные замечания. В следующий раз, разрезая Гарольдовым складным ножом бифштекс, изжаренный на костре, я сильно порезал большой палец. Я туго завязал палец платком, чтобы вожатый ничего не заметил. Но кровь просочилась через платок и стала капать, и я оставлял за собой кровавый след. Когда вожатый увидел этот след, он сначала очень встревожился, пока не обнаружил, что эта кровь — моя. Тогда он успокоился, наверно, потому, что я не был членом его отряда. А может быть, он даже хотел, чтобы я умер.
Третий поход меня доконал. Когда на костре нагревают банку жареных бобов, в банке нужно сперва провертеть дырку, чтобы выходил пар. Мне никто об этом не сказал. Скауты такие вещи знают. Так вот, мы сидели вокруг костра и поджаривали на огне сосиски, нацепленные на палки, когда моя банка в костре неожиданно взорвалась, как граната. Это испортило весь пикник. Нас всех с головы до ног обсыпало бобами, а вожатому вдобавок сильно порезало ухо летящим кусочком жести, так что он был весь измазан кровью. Больше меня в походы не брали. По словам Гарольда, вожатый велел ему больше меня не приглашать, потому что очень уж я неловкий. Точнее, он сказал Гарольду: «Твой растяпа кузен, у которого все из рук валится», что, по-моему, было очень грубо. Не помню уж, как он выглядел, но он явно не годился в вожатые скаутского отряда.
Поэтому все эти мамины разговоры о том, чтобы послать меня на лето в лагерь «Орлиное крыло», меня насторожили. Мне нравилось проводить лето на фейдеровской ферме, и я считал, что от добра добра не ищут. Но, когда я заканчивал домашнюю работу по арифметике, раздался звонок и пришел мистер Уинстон.
Пока я наскоро решал последний пример, я слышал, как он беседует с мамой. Это уже само по себе было странно — слышать голос мистера Уинстона у нас в квартире. Еще страннее, когда я вошел в гостиную, было то, как выглядела мама. Когда я перед этим видел ее за ужином, она была в старом домашнем платье и в фартуке. Теперь она совершенно преобразилась: на ней было лиловое платье, которое она обычно приберегала для свадеб и «бар-мицв», — в нем она выглядела гораздо стройнее, — и волосы у нее были уложены, как в шабесный вечер, а в ушах красовались жемчужные серьги в золотой оправе, привезенные еще из России. Глаза у нее сияли, щеки раскраснелись, и они с мистером Уинстоном над чем-то весело смеялись. Я никогда еще не видел маму такой румяной. От нее исходил чудный аромат, напоминавший запах яблонь на фейдеровской ферме, — сладкий, свежий, очень терпкий. Мама и раньше иногда душилась, но это были совсем новые, не знакомые мне духи. Неужели она их специально купила, чтобы произвести впечатление на моего учителя? Но для чего? Она же знала, что мистер Уинстон и так обо мне очень хорошего мнения.
— Легок на помине! — воскликнула мама. — Вот и он! У тебя небось уши горели. Тут кое-кто как раз тебя похвалил.
— Привет, Дэвид! — «Дуглас Фэрбенкс» улыбнулся и провел пальцем по усам — точно так, как он это делал в кино. Он сел и скрестил ноги в идеально отглаженных брюках — со стрелкой, острой как нож — и в каких-то матерчатых покрышках на ботинках. Чисто, как в кино! Они с мамой сидели рядом на диване, а на низком столике перед ними были разложены брошюры, фотографии и какие-то бумаги.
— Посмотри-ка, — сказала мама. — Это так красиво!
Я повиновался. Лагерь «Орлиное крыло» выглядел на картинках совершенно по-скаутски: дети прыгали в воду с вышки, маршировали цепочкой по лесу, играли в волейбол и ели за длинными столами, или же сидели вокруг костра и жарили сосиски —!!! — или гребли на байдарках, или плели корзины. И повсюду маячили типичные вожатые скаутских отрядов.
— Это что, лагерь для девочек? — спросил я, увидев несколько фотографий, на которых были только девочки.
— О да! — восторженно сказала мама. — Это лагерь «Нокомис». Туда поедет Ли.
— «Нокомис»? Это на иврите?
Мистер Уинстон улыбнулся:
— Нет, Дэвид, это по-индейски. «Прямо с месяца упала к нам прекрасная Нокомис, дочь ночных светил Нокомис». Ты будешь читать Лонгфелло в будущем году. Это писатель, по имени которого названа ваша улица.
— Эти лагеря, конечно, еврейские? — спросила мама слегка недоверчиво.
— Миссис Гудкинд, я же еврей! — сказал, улыбнувшись, мистер Уинстон и провел пальцем по усам.
— Правда? — спросила мама, широко раскрыв глаза. — Никогда бы не подумала.
Меня это тоже удивило. Я был уверен, что все учителя — гои, в том числе и этот обольститель; да в те времена так обычно и было.
— Мой дед был раввин.
— Неужели? Где?
Неопределенно махнув рукой в сторону, по-видимому, Атлантического океана, мистер Уинстон ответил:
— О, в Европе.
Не думаю, что он это выдумал. В те дни часто можно было услышать разговоры о том, что кинозвезды вроде Дугласа Фэрбенкса, Мэри Пикфорд и Рамона Наварро — на самом деле евреи, и их настоящие фамилии — Коган, или Горовиц, или Гольдштейн. В этом смысле, возможно, и мистер Уинстон был еврей. Что же до деда-раввина, то среди американских евреев редко встретишь такого, у которого не было бы деда-раввина в старом галуте. Имеется в виду седобородый джентльмен в ермолке, сурово глядящий со старой фотографии.
Но, как бы то ни было, мама во мгновение ока превратилась в «йохсенте».
— Мой отец был раввин из Воложинской иешивы, это была самая знаменитая иешива во всей Литве. А мой дед был главным раввином в Минске.
— Ну, теперь понятно, в кого Дэвид такой умный! — сказал мистер Уинстон. — И его мама тоже.
Они рассмеялись — и смеялись долго, игриво глядя друг на друга. Мне стало как-то неловко.
— Может быть, Дэвид поможет нам в «Орлином крыле» проводить субботние молитвы? — спросил мистер Уинстон.
— Ой, песчаный пляж! — воскликнул я, разглядывая фотографии.
— Да. У нас там роскошный песчаный пляж, — сказал мистер Уинстон. — Самый лучший!
— Ну, что ты думаешь, Дэви? — сказала мама. — Разве это не выглядит совершенно замечательно?
— Но я там никого не знаю.
— Я возьму тебя в свой отряд, — сказал мистер Уинстон, — и ты там быстро со всеми познакомишься.
— О, Дэвид очень общительный, — сказала мама. — У него быстро появятся товарищи.
Сквозь аромат маминых духов я вдруг учуял запах мазей. Обычно в это время «Бобэ» уже спала; но старушка была очень любопытна, и незнакомый мужской голос ее, по-видимому, разбудил. Она, ковыляя, вошла в гостиную, облаченная в бесформенный коричневый мешок, парик у нее сбился набок, и из-под него выбивались седые волосы. Она замерла на месте и уставилась на мистера Уинстона, который тоже уставился на это неожиданное явление призрака народу.
— Чего хочет этот гой? — спросила «Бобэ» на идише.
Мама бросила опасливый взгляд на мистера Уинстона, однако тот улыбался в блаженном неведении. «Бобэ» с таким же успехом могла задать свой вопрос не на идише, а на суахили.
— Ничего, «Бобэ», ничего, — пробормотала мама, вскакивая. — Этот господин у нас в гостях. Там, в кухне, есть немного чая, и…