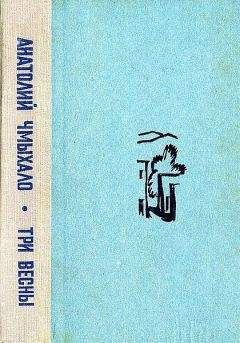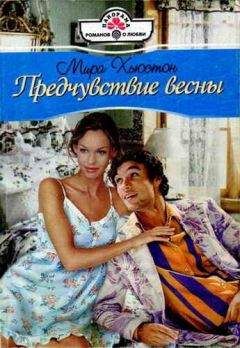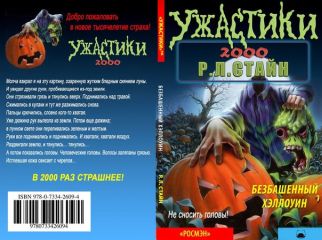Жозе Сарамаго - История осады Лиссабона
А Раймундо Силве, которого более всего занимает, как бы получше обосновать еретический постулат о крестоносцах, отказавшихся помочь в осаде Лиссабона, как до одного персонажа, так и до другого дела мало, хотя, разумеется, как человек импульсивный, он не может избежать тех мгновенных притяжений или отталкиваний, которые находятся, так сказать, не в сердцевине вопроса и нередко в конце концов ставят в зависимость от некритически воспринятых личных предпочтений или неприязни то, что должно решаться сообразно данным разума и – в данном случае – истории. В Могейме привлекла его непринужденность, чтобы не сказать блеск, с которым тот изложил эпизод штурма, но, помимо чисто литературных достоинств, пленил его порыв человечности – свидетельство хорошо развитой души, упрямо сопротивляющейся пагубному воздействию извне, – проявленный в жалости к несчастным мавританкам, и не потому, что не влекли его Евины дочери, пусть и испортившие породу, вовсе нет, случись ему тогда оказаться в долине, а не рубиться с мужьями этих женщин, он бы насладился их телом так же и с таким же удовольствием, что и его сотоварищи, но вот резать горло, в которое еще минуту назад впивался он поцелуем, – нет, не стал бы. И потому Раймундо Силва избирает в герои его, хоть и считает, что кое-какие моменты должны быть предварительно прояснены, дабы не возникло недоразумений, способных омрачить впоследствии, когда непременные узы приязни, связывающие автора с его мирами, сделаются неразрывными, так вот, сказали мы, омрачить полную гармонию причин и следствий, которые стянут этот узел с двойной силой необходимости и неизбежности. И стало быть, надо разобраться, кто здесь лжет, а кто речет истину, и в данном случае мы имеем в виду не имена – Могейме, или Мокейме, ибо и на такой манер зовут его многие, или Мойгема – и хотя имена важны, спору нет, все же важность свою они обретают лишь после того, как мы узнаем их, а пока не узнали, человек для нас – всего лишь человек, да и все на этом, вот он тут, перед нами, мы глядим на него и, значит, узна́ем, если он попадется нам в другом месте: Я знаю его, говорим мы – и баста. А узнав наконец и как зовут его, верней всего, из составного имени мы ограничимся лишь частью этого имени, выберем ее или примем как самую точную идентификацию, и это доказывает, что имя, конечно, важно, но не всеми своими частями одинаково, ибо нам безразлично, что Эйнштейна звали Альбертом и что фамилия Гомера неизвестна. А если и хотелось бы Раймундо Силве на самом деле в чем-то удостовериться, то разве лишь в том, что вуды в ручье Атамарма и вправду сладкие, как уверял Могейме, провозвещая будущую главу в Хронике Пяти Португальских Королей, или, наоборот, горькие, как заявляет в своей почтенной Хронике дона Афонсо Энрикеса уже не раз помянутый нами Антонио Брандан, договорившийся до того, что не горчи вода в ручье хоть немного, не получил бы он такого названия, ибо если перевести его на местный и доступный пониманию язык, это и значит Горькие Воды. Вопрос был не из самых главных и важных, однако Раймундо Силва дал себе труд задуматься над ним и прийти к выводу, что, рассуждая логически – хоть мы-то с вами знаем, что действительность не всегда избирает торную стезю логики, – и приняв в расчет, что все источники на земле в большинстве своем пресноводные, а потому бессмысленна попытка определить этот ручей по тем его свойствам, какие имеются у всех иных, и ведь не называем же мы Венериным Волосом воды, окружающие зародыша, так что корректор, в другие источники, исторические и документальные, еще не заглянув, подумал, что все же горьки должны быть воды Атамармы, и, продолжая размышлять, решил, что когда-нибудь сам зачерпнет оттуда и окончательно убедится, что они солоноваты, и таким образом все разрешится ко всеобщему удовольствию, ибо солоноватость – как раз на полдороге от сладкого к горькому.
Тут надо сказать, что о названиях и вкусах Раймундо Силва думал меньше, чем могло бы показаться при чтении этих пространных и неспешных дум, призванных, быть может, всего лишь продемонстрировать те особенности его мышления, которые приметила в нем и за ним признала Мария-Сара, признала, да, хотя его еще не знала. Так вот, на самом деле у корректора, раз уж он выбрал Могейме в свои герои, забота теперь иная, а именно – поймать его на противоречии, если не на откровенной лжи, в ситуации, альтернативой коей может быть только правда, потому что тут нет пространства для нового ручья Атамармы, примирительно катящего свои воды – воды не такие и не этакие. Могейме, помнится, сказал совершенно ясно, что забрался на плечи Мему Рамиресу, чтобы забросить крючья лестницы за зубцы крепостной стены, и это обстоятельство с непреложностью исторического факта показывает, что описываемый век не очень далеко ушел от века золотого, ибо еще сохранился в нем блеск иных деяний, вот, например, когда дворянин из свиты дона Афонсо, ну то есть приближенный его, обратил свое драгоценное тело в опору, подставку или, если угодно, подножку для простонароднейших ступней рядового солдата, не имеющего иных достоинств и заслуг, кроме того, что вышел рослее других. Но сказанное Могейме и подтвержденное Антонио Бранданом опровергается более ранним текстом Хроники Пяти Королей, где заявлено ясно и прямо, несмотря на все лексические и орфографические выкрутасы того далекого времени, что это Могейме согнулся и подставил спину Мему Рамиресу и сделал это по приказу последнего, и никакие фокусы с толкованием, равно как и языковая казуистика, не допускают иного прочтения. Раймундо Силва сравнивает два лежащих перед ним текста – никаких сомнений, Могейме солгал, и это следует как из логической нестыковки в иерархии, ибо с чего бы капитану служить цоколем рядовому, так и из весомого авторитета более раннего источника. Конечно, тем, кого интересуют только великие исторические события, подобные вопросы покажутся полнейшей нелепостью, но ведь надо же понять и Раймундо Силву – он выполняет данное ему поручение и вот прямо при входе сталкивается с невозможностью взаимодействовать с подобным Могейме, Мокейме или Мойгемой, не только точно не знающим, кто он и как пишется, но еще и, по всему судя, злостно искажающим истину, которую, между прочим, как очевидец, обязан свято чтить и в неприкосновенности передать потомкам.
Впрочем, когда еще было сказано, что, мол, кто без греха, пусть первым бросит камень. В самом деле, осуждать легко: Могейме лжет, Могейме лгал, но мы-то, здорово поднаторев за последние двадцать веков в лжах и истинах, приняв на вооружение разъедающую души психологию и скверно переведенный психоанализ и еще очень-очень многое другое – для простого перечисления потребуется страниц пятьдесят, – не должны разить нашим неумолимым клинком чужие недостатки, если уж к своим столь снисходительны, чему лучшее доказательство – то, что не сохранилось в веках имя человека, который осудил бы свои деяния с суровостью столь бескомпромиссной, что, приводя в исполнение приговор, вынесенный духом, дошел бы до такой крайности, как побивание камнями собственной плоти. Впрочем, если уж мы затронули евангельские темы, позволительно будет поинтересоваться, вправду ли тогдашний мир столь закоснел во грехе и пороке, что для спасения его потребовался Сын Божий собственной персоной, ибо сам этот эпизод с прелюбодейкой показывает нам, что дела по этой части обстояли в Палестине совсем даже не плохо – не плохо, а отвратительно, поскольку в те далекие дни ни один камень не полетел в бедную женщину, и стоило лишь Иисусу произнести эти роковые слова, как сразу опустились занесенные руки, тем самым давая понять, что да, все так, ничего не попишешь, не без греха мы. Что же, народ, способный публично, пусть и в косвенной форме, повиниться, не вполне, значит, еще пропащий народ, сохранил он в неприкосновенности начало доброты, и мы рискнем, благо риск ошибиться минимальный, да, рискнем предположить, что Спаситель несколько поторопился со своим явлением. А вот в наши дни стоило бы это сделать, потому что не одни только развращенные неуклонно следуют стезей разврата, но и с каждым днем все меньше оснований останавливать уже начинающуюся казнь.
На первый взгляд кажется, что эти морализаторские отступления слабо соотносятся с упорством, какое проявил Раймундо Силва в попытках принять Могейме как персонажа, но польза их наверняка станет ясна, если вспомнить, что упомянутый, полагая, что свободен от крупных пороков и недостатков, повинен был в ином грехе, который хоть, вероятно, не меньше остальных, но в силу своей невероятной распространенности в мире и легкости в использовании повсеместно воспринимается как простительный. Грех этот – притворство. Раймундо Силва прекрасно знает, что нет разницы между тем, чтобы соврать, кто кому залез на плечи – я ли Мему Рамиресу, Мем Рамирес ли мне, – и – ну, это так, к примеру – банальной процедурой окрашивания волос, и ведь все, в конце-то концов, есть вопрос тщеславия, желания выглядеть лучше и в физическом плане, и в аморальном, а раз так, нетрудно вообразить себе время, когда любое человеческое поведение будет искусственно и отринет, не вглядываясь, искренность, непосредственность, простоту, все эти прекраснейшие, светлейшие свойства натуры, которые так трудно поддавались определению и которые так трудно было применять в те, теперь уже отдаленные времена, когда мы, хоть и сознавали, что уже выдумали ложь, еще думали, что способны жить по правде.