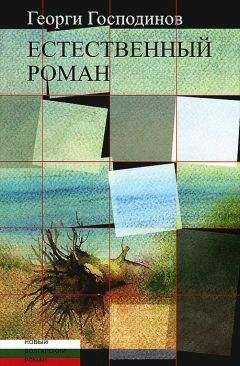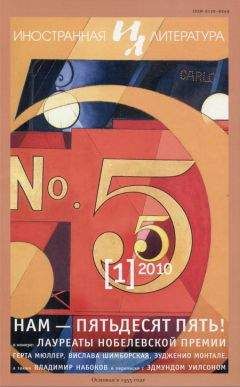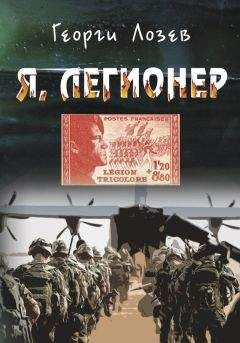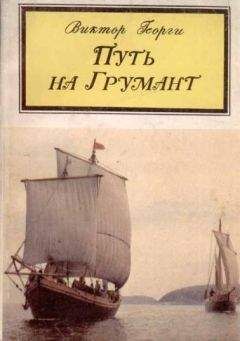Времеубежище - Господинов Георги
Сегодня первое сентября.
6
Утром первого сентября 1939 года Уистен Хью Оден проснулся в Нью-Йорке и сделал в своем дневнике такую запись: «Голова раскалывается. Спал плохо, снилось, что Ч. мне изменяет. В газетах пишут, что Германия напала на Польшу…»
Вот тебе и начало: ужасные сновидения, воина и головная боль.
Эта запись в дневнике Одена попалась мне на глаза, когда я работал в Нью-Йоркской библиотеке. Вообще его дневник хранится в Лондоне, но по счастливой случайности тогда он находился в Нью-Йорке вместе с архивом поэта.
Только дневник может объединить личное и историческое. Мир изменился: Германия напала на Польшу, началась война, болит голова, а этот идиот Ч. имеет наглость изменить мне во сне. Сегодня во сне, а завтра наяву (интересно, думает ли он об этом?). Если вспомнить, Шахрияр в «Тысяче и одной ночи» приказал казнить каждое утро по одной из жен, узнав об измене. Давал ли себе отчет Оден, как много информации в тех двух строчках, насколько они точны и циничны? Всего две строчки о самом важном дне века.
В тот же день, когда головная боль несколько поутихла, он написал:
Здесь все: пивнушка на Пятьдесят второй улице, головная боль, измена и плохой сон, нападение на Польшу в пятницу первого сентября — уже история. Стихотворение так и будет названо: «1 сентября 1939 года».
Как банальное ежедневие становится историей?
Постойте, та самая часто цитируемая строчка «We must love one another or die» [3] в финале стихотворения, которая не нравилась Одену, и он часто убирал ее вообще, — не связана ли она именно с изменой, которая ему приснилась?
Разве хоть кому-то хочется помнить подобные кошмары?
Мне бы хотелось узнать все о том дне, об одном осеннем дне 1939 года. Сидеть с людьми на кухне в разных частях света, пить кофе, жадно читать в газетах обо всем: от войск, собранных на немецко-польской границе, до последних дней летних распродаж и новом баре «Чинзано», который распахнул двери в Нижнем Манхэттене. Осень уже на пороге, проплаченные заранее рекламные заголовки в газетах теперь соседствуют с краткими коммюнике о последних часах Европы.
7
Первого сентября, но уже в другое время я удобно расположился на траве в Брайант-парке. Пивнушки на Пятьдесят второй улице уже давно нет. Я только что приехал из Европы и чувствую себя совершенно разбитым. В конце концов, душа тоже страдает от смены часовых поясов. Сейчас буду смотреть на лица людей. У меня с собой томик Одена. После целого дня, проведенного в библиотеке, чувствую «неуверенность, страх». Я плохо спал, измена мне не снилась. А может быть, и снилась, но забыл… В мире все так же нестабильно. Местный правитель и правитель одной далекой страны угрожают друг другу. Для этого используют «Твиттер». Достаточно нескольких символов. Никакой прежней риторики, никаких учтивых фраз. Чемоданчик, кнопка и… конец рабочего дня для всего мира. Чиновничий апокалипсис.
Да, нет уже прежних пивнушек, нет старых мастеров. Та война, которая еще только надвигалась, тоже уже закончилась, как закончились и другие войны. И только общая тревожность осталась.
«I tell you, I tell you, I tell you we must die» [4], — доносилась откуда-то песня The Doors, и вдруг мне показалось, что ведется какой-то тайный разговор, что Джим Мориссон фактически спорит с Оденом. Именно этот припев, эта реплика словно старается погасить колебание в той нелюбимой Оденом строчке «We must love one another or die».
У Mориссона нет сомнений, он категоричен: «I tell you we must die».
Позднее мне удалось установить, что, по сути, текст этой песни был написан еще в 1925 году Бертольдом Брехтом и положен на музыку Куртом Вайлем. В 1930 году он лично исполнил его. Успех был умопомрачителен… Но все запуталось еще больше. Оден позаимствовал строчку у Брехта и, в сущности, завел с ним разговор. Так Брехт в 1925-м и Мориссон в 1969-м отправились вслед за смертью. «Говорю тебе, мы должны умереть». На их фоне Оден не столь категоричен, он все еще дает шанс: «Мы должны любить друг друга или умереть». Только перед войнами, даже непосредственно накануне, человек склонен надеяться. Первого сентября 1939 года мир, вероятно, еще можно было спасти.
Я приехал в Нью-Йорк второпях, как обычно приезжал в этот город — убегая, в поисках чего-то другого. Я убежал с континента прошлого туда, где, как говорят, прошлого там нет. Хотя между делом его и там поднакопилось. Со мной был желтый блокнот, и я разыскивал одного человека. Мне очень хотелось рассказать обо всем, пока не изменила память.
8
Несколькими годами ранее я приехал в город не знавший 1939 года. В этом городе прекрасно жить, но еще прекраснее — умирать. Этот город спокоен, как кладбище. «Ты не скучаешь?» — спрашивают меня по телефону. Скука — символ этого города. В нем скучали Канетти, Джойс, Дюрренматт, Фриш и Томас Манн. Как-то неловко сравнивать свою скуку с их скукой. «Нет, не скучаю», — отвечаю я. Кто я такой, чтобы скучать? Хотя, честно говоря, где-то в глубине душе мне очень хочется испытать роскошь скуки.
Прошло достаточно времени с тех пор, как я потерял следы Гаустина в Вене.
Я очень надеялся, что он даст мне знак, напомнит о себе. Я просматривал страницы самых непопулярных газет, но он явно стал очень осторожным. В один прекрасный день я получил почтовую открытку без обратного адреса: «Привет из Цюриха. Я задумал кое-что необычное. Если получится, непременно напишу».
Это мог быть только он. В следующие месяцы от него ничего не приходило, но я поторопился принять приглашение приехать ненадолго в их «Дом литературы».
Таким образом, у меня был целый месяц. Я гулял по пустынным воскресным улицам, радовался солнцу, которое зависало над холмом, и можно было на закате наблюдать, как далеко-далеко фиолетовая тень постепенно укутывает вершины Альп. Теперь я понимал, почему под конец жизни все старались перебраться именно сюда. Цюрих очень хорош для того, чтобы здесь стариться. И умирать тоже. Если существует какая-то возрастная география, то она, по-моему, должна распределяться следующим образом: Париж, Берлин и Амстердам со всей их неформальностью, запахом травки, пивом на лужайке Мауэрпарка, блошиными рынками по воскресеньям и фривольностью секса — для молодости. Потом их следует менять на Вену или Брюссель. Замедленный ритм жизни, удобство, трамваи, действующие медицинские страховки, учебные заведения для детей, карьера, еврочиновники… Для тех, кто еще не готов стареть, существуют Рим, Барселона, Мадрид. Качественная еда и теплые послеобеденные часы компенсируют шум, постоянное движение и легкий хаос. Для поздней молодости я еще прибавил бы Нью-Йорк. Да, я считаю его европейским городом, по стечению обстоятельств оказавшимся за океаном.
Цюрих — город для старения. Мир замедлил бег, река жизни уютно устроилась в озере, поверхность уже не идет рябью, все неспешно, спокойно, стала доступна роскошь скуки, а солнце стоит над холмом, согревая старые косточки. Время пребывает в своей относительности. Нет ничего случайного в том, что два явления XX века, связанные с временем, возникли именно здесь, в Швейцарии: теория относительности Эйнштейна и «Волшебная гора» Томаса Манна.
В Цюрих я приехал не умирать, совсем наоборот. Мне нужно было закончить роман, который я забросил как раз посередине. Мне была очень нужна эта пауза. Я бродил по улицам Цюриха, размышляя над романом и надеясь встретить Гаустина. Просто вот так, неожиданно, на мини-поезде, идущим в Цюрихберг, или на кладбище Флунтерн, на могиле Джойса. Я провел там несколько дней, сидя после полудня рядом с курящим Джойсом, положившим ногу на ногу, с книжкой в правой руке. Он только на секунду оторвал взгляд от книги, словно дожидаясь, когда растает дым от сигареты, застлавший строчки на странице. Глаза за стеклами очков чуть прищурены. И ты ожидаешь, что вот сейчас он посмотрит на тебя и что-то скажет. Этот памятник я считаю одним из самых живых надгробий, которые мне доводилось видеть. Я посещал многие кладбища в разных городах, как любой, кто боится смерти или процесса прощания с жизнью (кто знает, чего мы больше боимся: самой смерти или процесса умирания), кто хочет увидеть логово своего страха, дабы убедиться, что это место тихое и спокойное и создано все-таки для людей, для их вечного покоя… Все равно с таким местом надо свыкнуться, хотя это и невозможно. Разве не странно, сказал мне однажды Гаустин, что всегда умирают другие, а не мы…