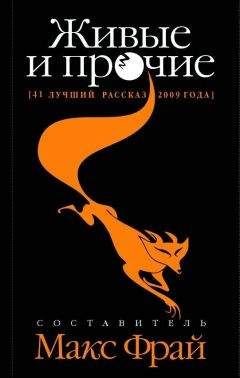И с тех пор не расставались. Истории страшные, трогательные и страшно трогательные (сборник) - Любомирская Лея Давидовна
– От этого бюста она и свихнулась, – сказала Фило, закуривая.
– В каком смысле – свихнулась?
– В прямом. Она говорила, что он ей подмигивает.
Бюст поэта оказался с изъянцем. Известно, что Камоэнс был крив на правый глаз, оттого его всегда изображают с полуопущенным веком. Но поэт, доставшийся Марии, смотрел на мир двумя широко раскрытыми глазами, а кривой была прячущаяся в бороде ухмылка на редкость тщательно изваянных губ. В целом, вид у него был довольно неприятным и даже пугающим. Выкинь ты его, ради Создателя, просили соседки по дортуару, или хотя бы накинь на него какой-нибудь платок. Платок? в ужасе переспрашивала Мария, на солнце португальской поэзии?! В конце концов, кто-то из пансионерок пожаловался сестрам святой Доротеи, что Менезеш держит на тумбочке голого мужчину.
– Голого?!
– Разве я сказала голого? – удивилась Фило. – Я имела в виду голову. Но, кстати, я думаю, что сестрам тоже показалось «голого». Ты представить себе не можешь, какой был скандал. Бедную дурочку едва не выгнали.
Марии разрешили оставить бюст при условии, что она спрячет его в тумбочку и не будет доставать в дортуаре. Хорошо, сказала заплаканная Мария и стала по вечерам выгуливать бюст в саду. Она то ходила с ним по аллейкам, то сидела в беседке, а однажды Фило увидела, как она пытается накормить бюст сорванной с куста ежевикой.
– Почему же к ней никто врача-то не вызвал? – не выдержала я.
– Почему не вызвал? Вызвал.
Прямо перед пасхальными каникулами Свин Божий застал Марию в беседке – она целовала Камоэнса в довольно ухмыляющиеся фарфоровые губы. Наверное, законоучитель действительно был ей отцом – он не стал устраивать сцен, а просто попросил сестер собрать Мариин чемодан, и на следующий день Мария Менезеш и бюст Камоэнса исчезли из пансиона. Говорили, что Свин отвез ее к Эгашу Монишу, с которым вроде бы приятельствовал.
– Это который изобрел лоботомию?
Тетушка поморщилась.
– Вроде того.
Мы помолчали. Фило потянула из пачки еще одну сигарету.
– А дальше? – спросила я, дождавшись, когда она закурит.
– А дальше все.
– Что, совсем все?!
Фило поерзала в кресле.
– Ну, – сказала она, – почти. Я встретила ее еще один раз – в парке возле вашего дома, как сейчас помню, была весна, ты только родилась. Камелии цвели дивно. Я шла мимо пруда – там тогда пруд был, где сейчас детская площадка.
– Теперь там опять пруд, – перебила я. – С лебедями.
– А, да? Тогда тоже были лебеди. Только вряд ли те же самые. Лебеди столько не живут. Ты не знаешь, сколько живут лебеди? – Фило опять почесала нарисованную бровь.
– Я посмотрю дома в справочнике, – сказала я, – вы, пожалуйста, не отвлекайтесь.
– А ты не перебивай.
Мария Менезеш стояла у пруда. Она очень изменилась с тех пор, как Фило видела ее в последний раз, обрюзгла, постарела, и на голове у нее была ужасная мятая коричневая шляпа. Но это была Мария Менезеш, одной рукой она прижимала к боку фарфоровый бюст поэта Камоэнса, а в другой держала кожаный поводок с совсем маленькой кудлатой собачонкой с приплюснутым носом и выпученными глазами. А, Фило, без удивления сказала она, будто они виделись утром за завтраком. Посмотри, какой красавец. И она кивнула на огромного белого лебедя, потягивающегося на другом берегу пруда. Они тут все хороши, но этот нравится нам с Луисом больше всех, сказала Мария Менезеш, да, Луис? И чмокнула Луиса куда-то в фарфоровый лавровый венок.
– А потом, – сказала Фило, – она умерла. Я была на похоронах. Она завещала мне бюст и собаку.
– Это какую собаку? Мушку? – Я вдруг вспомнила тетушкину Мушку. Это была низенькая, раскормленная собачонка, невыразимо уродливая и столь же невыразимо доброжелательная. Когда я приходила к Фило, Мушка бросалась меня вылизывать и вылизывала всю, от ушей до кончиков пальцев. Тетя, вопила я, пытаясь увернуться от Мушкиного языка, позовите ее, она меня уже всю обмуслила! Ну, раз уже все равно обмуслила, чего я зря буду ее звать, отвечала Фило.
– Во время похорон, – сказала вдруг Фило, – случилась очень странная штука. Гроб еще не закрыли, я подошла попрощаться и Мушку несла под мышкой, чтобы она тоже попрощалась. А бюст Камоэнса стоял на табуретке рядом с гробом. Я наклонилась над гробом, и тут Мушка увидела Камоэнса и как взвоет! Я ее чуть не уронила от неожиданности. Я даже подумала, может, Мария Менезеш не была такой уж сумасшедшей, может, он и впрямь подмигивает.
Фило осторожно опустила собачку на пол, и та прижалась, дрожа, к ее ногам. Потом она взяла бюст Камоэнса, повертела в руках. Камоэнс смотрел на нее безо всякого выражения широко раскрытыми фарфоровыми глазами. Фило пожала плечами и вернула Камоэнса на табуретку. Потом снова взяла Мушку на руки. Мушка засопела и благодарно лизнула ее в шею.
– Ужасно трогательно, – сказала я, вставая и потягиваясь. – Я, пожалуй, пойду.
– Иди, – без интереса ответила Фило, – а я посплю. Только погоди, дай ему тоже сигарету, а то мне вставать лень.
– Вам обязательно надо вставать, чтобы суставы не… – начала было я, но остановилась. – Тетя, кому – ему?
– Ему – Камоэнсу. Он в тумбочке.
Это я виновата, подумала я. Заставила бедную старуху два раза подряд рассказывать эту историю с подмигивающим Камоэнсом, и теперь у нее в голове все смешалось. Я все время забываю, сколько бедняжке лет, а так нельзя, ее надо беречь.
Я подошла к тумбочке и открыла дверцу. В глубине, почти не видный за банками малинового и ежевичного варенья, действительно стоял небольшой фарфоровый бюст поэта Луиса де Камоэнса. Я вытащила его, стерла с нечистой фарфоровой бороды что-то черное – возможно, остатки ежевики. И завизжала. Солнце португальской поэзии кривлялось у меня в руках, подмигивало обоими глазами по очереди, а потом вывалило, дразнясь, фарфоровый язык. Я стояла и визжала, не в силах остановиться, и сквозь визг слышала, как в своем кресле возится и довольно кудахчет тетушка Фило.
Старуха

Я выходила из кафе с подносом, кофе с молоком, тост с маслом и шоколадное пирожное, я накрыла его салфеткой, от взглядов и мух, но все равно немного виднелся шоколадный бок, а старуха стояла в дверях, прямо посередине, самая обычная старуха в серой водолазке, серой суконной юбке до колен и плотных серых чулках, совершенно невозможных по такой жаре. Лицо у нее было белесое и влажное, как недозрелый сыр, и такие же белесые висели на шее жемчуга, три нитки, третья, самая длинная, спускалась ниже пояса.
Она посмотрела на мой поднос, на меня, снова на поднос, очень внимательно, даже накренилась немного всем телом, силясь заглянуть под салфетку, потом выпрямилась и посторонилась, давая мне дорогу. Я поблагодарила. Она глянула на меня с таким выражением, с каким может глянуть головка недозрелого сыра, глаза у нее были тусклые, как будто пыльные, веки морщинистые, а реснички коротенькие, бесцветные. Я улыбнулась. Несмотря на жемчуга, вид у старухи был небогатый и голодный, и я почти что решила предложить ей тостов и кофе. Шоколадное пирожное я оставила бы себе. Старуха еще раз коротко глянула на меня, развернулась и пошла прочь, прижав руки к телу и слегка покачиваясь на высоких каблуках.
Через несколько дней я встретила ее на почте, она сидела очень прямо на легкомысленной красной банкетке – ноги в серых чулках плотно сжаты, руки терпеливо лежат на костистых, обтянутых серой юбкой коленях. Я подошла поздороваться. Старуха повернула ко мне свое сырное лицо и тут же отвернулась. Это было в среду.
В четверг утром старуха была в поликлинике, а после обеда в овощной лавке – мяла бледными суставчатыми пальцами некрасивую, но сказочно вкусную сливу сорта королева Клаудия. В пятницу я встретила ее у хлебного фургона за домом, у моего хлебного фургона, где пекарша Мафалда два раза в неделю продает мне половину квадратной буханки и пакетик печенья с корицей. Старуха прошла мимо меня, унося мое печенье, я не знаю, как так вышло, уныло говорила потом Мафалда, жалобно глядя на меня коричневыми ржаными глазами, она просто подошла и взяла, не спрашивая, не отнимать же. Ерунда, ответила я, хотя это была совсем не ерунда, а мое любимое печенье, я привыкла есть его перед сном с чаем.