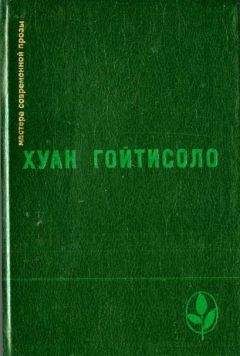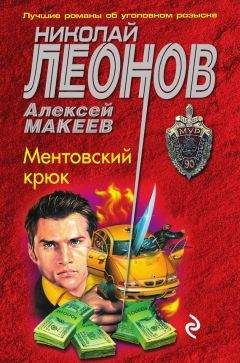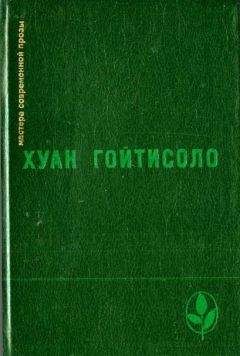Оп Олооп - Филлой Хуан
Так он провел четверть часа.
Тот, кто научился усмирять страсти, порывы и желания, знает, что все они уступают решительному внутреннему голосу. Любой бунт по прошествии острой стадии неповиновения подчиняется приказу, после чего восстанавливается дисциплина. Оп Олооп был этому свидетелем. Строгость к самому себе не раз вызывала в нем ожесточенный протест энтелехий, идей и порывов, но стремление обрести прежние мир и покой, пусть и управляемые безжалостной рукой, вновь делало их покорными и загоняло обратно в казармы.
Он моргал, как человек, который только что чихнул. В зрачках Опа Олоопа словно отражались ранее неслыханные яростные крики. Бунтовало его глубинное «я», его инстинкты, за которыми следовали самые дерзкие leaders, meneurs у condottieri [6] в лице его совести, разума и воли.
Педикюрщик закончил свою работу. Поддерживая ладонями пятки, он смотрел на стопы, и в его взгляде читалось глубокое удовлетворение созданным произведением искусства. Подобный экстаз в такого рода профессии — это что-то из области мистики и психопатологии. Но он этого не знал. И, отрешившись от всего, смотрел на угнездившиеся у него в ладонях ноги, похожие на фрагмент фарфоровой статуи.
Издав невнятный крик, Оп Олооп подпрыгнул, забыв про позу своих предков. При виде этого поклонения деформированным ступням эскадрон его мыслей, занятый подавлением внутренних волнений, развернулся и рванул наружу:
«Безобразие! Бред! Уберите отсюда этого фетишиста!»
И обнаженным, с банным полотенцем в руке помчался в apodyterium.
На бегу он снова врезался в толстяка. Гигантский живот, сыгравший роль импровизированного бампера, завибрировал.
— Да смотрите же, куда вы идете, сеньор!
Толстяк остановился. И глухое ворчание, памятное по предыдущей встрече, внезапно превратилось в четкие слова:
— Видите ли, вы говорите мне это уже второй раз, при этом вовсе не я пытаюсь сбить вас с ног. Вы или сумасшедший, или на грани помешательства…
Оп Олооп окаменел. Его губы скривились в гримасе сквернословия. Перекошенные глаза блестели, он искал достойный ответ. И не нашел его. Резкая отповедь, которую предвещали его яростные движения, развалилась и свелась к тихому бормотанию:
— Сумасшедший?! Сумасшедший? Сумасшедший… «Сумасшедший». Сумасшедший! Сумасшедший. Сумасшедший! «Сумасшедший». Сумасшедший… Сумасшедший? Сумасшедший?!
Он произносил это слово всеми возможными способами. Спустился и поднялся по внутренней лестнице своего «я», пытаясь найти в нем какое-то неизвестное ему значение. И, внезапно, вновь поддавшись подавленной было ярости, проделал то же самое в полный голос, сначала негромко и горячо, потом в соответствии со всеми нормами языка, затем in crescendo до полного исступленного отчаяния:
— Сумасшедший?! Сумасшедший? Сумасшедший… «Сумасшедший». Сумасшедший! Сумасшедший. Сумасшедший! «Сумасшедший». Сумасшедший… Сумасшедший? Сумасшедший?!
Шум быстро утих. Увещевания банщиков сыграли роль целебного бальзама. Уговоры отвлекли его от навязчивой мысли, убедили, что сумасшествие к нему не относится. Чудесное решение! Но слово, превратившееся в концепцию, по инерции продолжало вертеться у него в голове.
Он попытался успокоиться. В его растерянные глаза вернулся осмысленный взгляд, чресла прикрыло полотенце. Заходя в раздевалку, он сказал:
— Спасибо, ребята. Не пугайтесь. Ничего страшного. Все уже прошло… Все этот отвратительный толстяк! Извините… У меня голова сейчас как карманное издание ада!
Omne individuum ineffabile! [7] Старая схоластическая мудрость наконец нагнала Опа Олоопа. Образ методичного, упорядоченного, исполненного софросюне человека, которым он наедине с собой так гордился, противопоставляя неуравновешенности всех прочих, рассыпался, бросился в бездны слабоумия с самой вершины его незаурядной личности.
Пока он переодевался, его мозг по неизбывной привычке снова начал размышлять. Он квалифицировал утренние злоключения как временный сбой мыслительной деятельности. И, чувствуя себя в осаде извне, под действием сложившихся обстоятельств, и под угрозой изнутри со стороны неподдающихся пониманию сил, решил кокетливо притвориться, что ничего не произошло, обмануть метафизическое зеркало.
Какая глупость! Можно контролировать разум, когнитивную функцию, мораль, все то, что человек получил или унаследовал от других людей, с которыми имел дело на протяжении своей жизни, но нельзя установить арифметический контроль над исключительно биологической составляющей своего вида. Что за абсурдное стремление достичь величия, направив волю и энергию на то, чтобы ежедневно превозмогать себя! Что за глупая страсть игнорировать все метания и позывы плоти и земные страсти! Что за нездоровое желание быть императором царства порядка, где нет места капризам и сбоям!
Чтобы справиться с катастрофой, Оп Олооп попытался провести психоаналитическую ревизию. Подойти к делу спокойно и ответственно, используя метод. Но, увы, метод оказался бессилен против запутанной стратегии случая. Пока метод управляет всеми духовными токами и жестко подавляет ненужные порывы и намерения, случай выводит реки духа из берегов, наполняя их водами тоски, ненависти или злости, захлестывая человека, заставляя его захлебнуться. И, не увидев ни берега, ни края своего «я», великолепный пловец ощутил глубокую горечь и предательскую усталость.
Невелика заслуга стать самодержцем своих поступков во внешнем мире и лежащих в их основе психических механизмов во внутреннем, если в момент опасности все твои усилия разбиваются вдребезги, споткнувшись об инстинкты.
Его могучая мысль, задушившая в себе первородный грех, саму возможность ошибки, стремление к подражанию и силлогизмам; его железная самодисциплина, обуздавшая все материальное, подчинившая плоть и покорившая кровь, были повержены, уступив простому образу, образу женщины!
11.45
На часах было без четверти двенадцать.
Оп Олооп смотрел на себя изнутри и видел жалкое раздавленное чудовище. Часы трижды пробили по два раза. Механически и бездумно одевшись, он собрался, взял перчатки, шляпу и трость. И вышел.
Банщики поджидали его в нетерпеливом ожидании чаевых, изображая кипучую деятельность.
Скупыми математически выверенными движениями, точно так же, как и в прошлые разы на протяжении уже целого ряда лет, статистик вручил каждому из четверых по тридцать пять центаво монетами по двадцать, десять и пять.
Банщики пробормотали «спасибо» и перемигнулись.
Он платил чаевые всегда. По тридцать пять центаво на человека монетами по двадцать, десять и пять. Рутина затягивает. Она паразитирует на человеке, множится в его делах, как лобковые вши в паху. И только сумасшествие или жар могут избавить от них.
Он исполнился многозначительности. Его кожа после бани приобрела яблочный оттенок. У него был вид человека, готового поведать какую-то тайну.
— Подойдите, — таинственно поманил он банщиков.
Их насторожила столь быстрая смена настроения. Но они полагали, что «приступ» уже прошел. И приблизились к нему.
— Я дам вам полезный совет. Но будьте осторожны! Мой рот вмещает молчание пигмея. Так пусть же ваша грудь вместит благоразумие гиганта!
Подошел педикюрщик.
Оп Олооп смерил его взглядом.
Возникла неловкая пауза.
Окружающие переглянулись и медленно покачали головами. И почти одновременно пробормотали, не понимая смысла:
— Мой рот вмещает молчание пигмея… Так пусть же ваша грудь вместит благоразумие гиганта?!.
Недоумение возрастало. И Оп Олооп решил действовать. Соображения репутации требовали стереть дурное впечатление, оставленное его поведением. Он трепетно относился к своему реноме. И знал, что простой люд лучше запоминает отклонения от нормы, чем саму норму. Знал, что мнение плебса разлетается, как пыль, оседая на хрустале славы и делая его мутным. И чтобы очиститься и стереть воспоминания этого утра, он заявил: