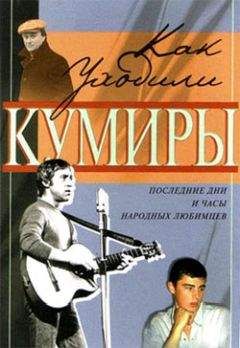Миграции - Макконахи Шарлотта
— Даму сегодня поить за наш счет, — объявляет он бармену — либо это еще один австралиец, либо тот, кто чуть раньше кричал с балкона.
— Да не стоит…
— Вы ему жизнь спасли. — Он снова улыбается, и я не могу понять, то ли это такой стеб, то ли так все и было. Решаю, что неважно — нальют бесплатно, и хорошо. Снова заказываю бокал красного и пожимаю ему руку.
— Бэзил Лиз.
— Фрэнни Линч.
— Фрэнни — красивое имя.
— Бэзил тоже.
— Нормально себя чувствуешь, Фрэнни?
Никогда мне не нравился этот вопрос. Буду умирать от чумы — и то он мне будет поперек горла.
— Подумаешь, холодная вода.
— Холод-то разный бывает.
Бэзил берет мой бокал и, не спросив, несет за свой столик, так что я иду следом. Он сидит вместе с «утопающим» — тот тоже успел переодеться в сухое — и еще несколькими приятелями. Меня знакомят с Самуэлем, дородным дядечкой лет шестидесяти с густой рыжей шевелюрой, и с Ани-ком, щупленьким инуитом. Потом Бэзил указывает на троицу молодых людей за бильярдным столом:
— Эти два раздолбая — Дешим и Малахай. В экипаже недавно, тупые жутко. А красотка — Лея.
Лохматый кореец, долговязый негр. Женщина — Лея — тоже чернокожая, самая высокая из троих. Они свирепо ругаются по поводу правил игры в бильярд, так что напоследок я поворачиваюсь к «утопающему», ожидая, что его мне тоже представят, но Бэзил уже пустился в пространные излияния по поводу того, что ему подали на ужин.
— Переварили, переборщили с орегано, с маслом тоже. Про гарнир, елки-метелки, вообще молчу. А сервировка — ну вообще ни в какие ворота!
— Ты заказал сосиски с пюре, — скучающим голосом напоминает ему Аник.
Самуэль все не сводит с меня смешливых глаз.
— А ты откуда будешь, Фрэнни? Выговор не могу опознать.
Для австралийцев выговор у меня ирландский. В Ирландии меня принимают за австралийку.
Я с самого детства моталась туда-сюда, никуда не прилепилась.
Я делаю глоток вина, морщусь — уж больно сладкое.
— Можешь меня называть ирландоавстралийкой.
— Так я и думал, — говорит Бэзил.
— А как ирландку занесло в Гренландию, Фрэнни? — не отстает Самуэль. — Ты поэтесса?
— Поэтесса?
— Ну, ирландцы вроде как все поэты.
Я улыбаюсь:
— Нам, наверное, нравится так думать. Но я изучаю последних уцелевших полярных крачек. Они гнездятся на побережье, но скоро полетят к югу, до самой Антарктиды.
— Значит, ты все-таки поэт, — подытоживает Самуэль.
— А вы рыбаки? — спрашиваю я.
— Ага. Сельдь ловим.
— Значит, привыкли к разочарованиям.
— Ну, по нынешним временам, пожалуй, да.
— Вымирающий промысел, — поясняю я.
Их предупреждали, и не раз. Всех нас предупреждали. Запасы рыбы закончатся. Океан почти пуст. Забирали и забирали, ничего не осталось.
— Пока нет, — впервые подает голос «утопающий». Он тихо слушал, и вот я поворачиваюсь к нему.
— В дикой природе рыбы почти не осталось. Он наклоняет голову.
— И зачем ее ловить? — интересуюсь я.
— Мы ничего другого не умеем. А в жизни должно быть место подвигу.
Я улыбаюсь, но лицо будто задеревенело. Внутри все сжимается, я думаю о том, как воспринял бы этот разговор мой муж, боровшийся за сохранение вымирающих видов. Его презрение, отвращение не ведали бы пределов.
— Шкипер у нас нацелился отыскать Золотой улов, — докладывает, подмигнув, Самуэль.
— А что это за штука?
— Белый кит, — поясняет Самуэль. — Святой Грааль, источник молодости. — Он так широко поводит рукой, что пиво выплескивается на пальцы. Похоже, он пьян.
Бэзил бросает на старшего товарища нетерпеливый взгляд и поясняет:
— Огромный улов. Как в былые времена. Чтобы набить трюм под завязку и разом разбогатеть.
Я разглядываю «утопающего».
— То есть вы охотитесь за деньгами.
— Не за деньгами, — возражает он, и я почти ему верю.
Подумав, спрашиваю:
— А как называется ваше судно?
На это он произносит:
— «Сагани».
Мне не сдержать смех.
— Я Эннис Малоун, — добавляет он, протягивая мне руку. Я в жизни не пожимала такой огромной руки. Обветренная, как и его щеки и губы, а под ногти въелся пожизненный запас грязи.
— Она тебе жизнь спасла, а ты даже и не представился? — изумляется Бэзил.
— Не спасала я ему жизнь.
— Собиралась, — уточняет Эннис. — Это одно и то же.
— Нужно было его бросить там тонуть, — заявляет Самуэль. — Так ему и надо.
— Надо было камни к ногам привязать: утонул бы быстрее, — предлагает Аник; я таращусь на него.
— Не обращайте внимания, — говорит Самуэль. — Черный юмор.
Судя по выражению лица Аника, чувства юмора у него нет совсем. Он, извинившись, отходит.
— А еще он не любит подолгу оставаться на земле, — поясняет Эннис, пока мы следим, как инуит элегантной походкой пересекает паб.
Подходят Малахай, Дешим и Лея. Мужчины явно дуются, садятся с одинаково нахмуренными бровями, скрестив руки. Лея излучает тихую радость, пока не видит меня — тут в ее карих глазах промелькивает подозрительность.
— Ну, что еще? — спрашивает Самуэль у двух парней.
— Дэш любит сам решать, каким правилам он будет подчиняться, — объявляет Малахай с явственным лондонским выговором, — А когда и вовсе припрет, выдумывает их на ходу.
— По-другому скучно, — объявляет Дешим с американским акцентом.
— Скука — для людей, лишенных воображения, — объявляет Малахай.
— Ну и нет, скука — вещь полезная: становишься изобретательнее.
Они обмениваются косыми взглядами, и я вижу: оба едва одерживаются, чтобы не улыбнуться. Потом переплетают пальцы — перепалка окончена.
— А это кто? — осведомляется Лея. Акцент у нее, похоже, французский.
— Это Фрэнни Линч, — сообщает Бэзил.
Я пожимаю им руки, лица парней светлеют.
— Шелки, да? — спрашивает Лея. Рука у нее сильная, перепачканная жиром.
Я замираю, удивленная: попала в точку и столько всего всколыхнула.
— Это люди-тюлени, живут в воде, только не спасают других, как вон ты, а, наоборот, топят. Знаю, кто они такие, — бормочу я. — Вот только не слышала, чтобы шелки кого-то топили.
Лея передергивает плечами, отпускает мою руку, откидывается на спинку стула:
— Ну, они этакие причудники и хитрюги, нет? Она неправа, но я слегка улыбаюсь, причем и во мне зарождается подозрительность.
— Хватит об этом, — останавливает нас Дешим. — Вопрос к тебе, Фрэнни. Ты подчиняешься правилам?
На меня смотрят выжидательно.
Вопрос вроде как глуповат, хоть смейся. Вместо этого я отхлебываю вина, а потом говорю:
— Всегда старалась.
В какой-то момент Эннис направляется к стойке принести всем по новой, Самуэль в четырнадцатый раз отбывает в сортир («Доживешь до моих лет — не смешно будет»), а Бэзил, Дешим и Лея выходят на открытую террасу покурить, и я оказываюсь в углу дивана рядом с Малахаем, хотя предпочла бы тоже курить снаружи. Народу в баре поубавилось — пианистка на сегодня закруглилась.
— Ты тут давно? — спрашивает Малахай низким голосом. Он большой непоседа, этакий перевозбужденный щенок, а еще у него темно-карие глаза, пальцы же выбивают такт даже тогда, когда музыка уже смолкла.
— Всего неделю. А ты?
— Две недели как пришли. Завтра утром отбываем.
— А ты давно на «Сагани»?
— Мы с Дэшем два года.
— И как… нравится?
Он обнажает белые зубы:
— Ну, этого-того. Тяжело, больно, иногда ночью плакать хочется, потому что все тело болит, ничего с этим не поделаешь, и ты заперт в этом паршивом чулане. Но все равно хорошо. Это же дом. Мы-то с Дэшем познакомились несколько лет тому на траулере, но, как сошлись, на нас все косо смотреть стали. А здешнему экипажу без разницы, они нам как семья. — Малахай умолкает, потом в улыбке появляется лукавство. — У нас на борту полный дурдом, уж ты мне поверь.
— В смысле?
— Самуэль не успокоится, пока не заведет по ребенку в каждом порту отсюда и до Мэна, а еще он вечно читает стихи, чтобы все слышали, что он это умеет. Бэзил в Австралии вел какое-то кулинарное шоу, но его оттуда вышибли, потому что он не умел готовить нормальную еду, только эту микрохрень, какую дают в выпендрежных ресторанах — ну, знаешь, да?