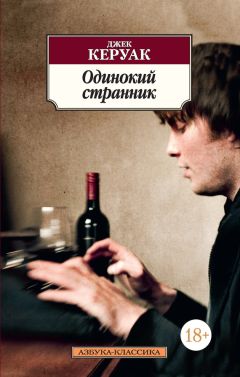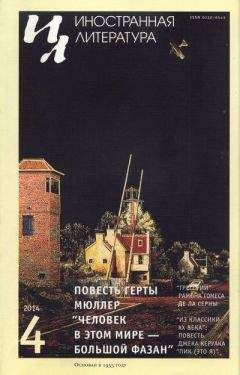Джон Апдайк - Супружеские пары
Пайт, отважный голландский мальчуган, чувствовал, что его друзей грозит смыть огромной приливной волной. А все этот городок, в который он угодил благодаря жене, урожденной Гамильтон! Мужчины перестали делать карьеру, женщины бросили рожать детей. Остались алкоголь и любовь. Би Герин пьяно висла на нем под выкрики Конни Фрэнсис, так что ломило ноги и шею, прожигала в его рубашке дыры дымящейся грудью, едва не предлагала перепихнуться. Он был не вполне уверен, что прозвучало именно это, но похоже на голландское fokker, in defuik lopen1, долетавшее в детстве до его слуха из подсобки теплицы, где шушукались родители. Маленький Пайт, уже американец, не понимал таких слов. Но ему нравилось находиться с родителями в теплице, в духоте, наблюдать, как ловко большие, грязные отцовские пальцы лепят куличики из дерна, как бледные пальцы матери вертят из фольги горшочки и втыкают в них зеленые ростки. И снова Пайт увидел глазами ребенка мотки бумажной ленты, ящики с разноцветными камешками и крупным песком для композиций из кактусов и фиалок, фарфоровые домики и фигурки зверюшек с поблескивающими носами, пачки поздравительных открыток с выпуклым серебряным словом «HANE-МА» — его фамилией, им самим, со всей его судьбой, запечатленной в этих буквах. Рядом с дверью в подсобку, где мать делала горшочки, а отец заполнял счета, находилась другая дверь — ледяная, запотевшая, за ней хранили срезанные розы и гвоздики и лежали штабеля чудесных ирисов и гладиолусов, замороженных и мертвых.
Пайт поменял позу и выбросил из головы теплицу вместе с вечеринкой.
Новая пара. Похоже, они боготворят друг друга, как два гладиолуса. Кембриджская рассада, рослая, отборная. Пайта новички раздражали. Здешняя почва недостаточно плодородна, слишком много народу на ней топчется. Тэд? Нет, Кен. Готовность к улыбке, но при этом томная угрюмость, лишенное иронии стремление к правоте. Занимается какой-то наукой — но не математикой, как Онг, и не миниатюризацией, как Солц. Биохимия. Отец Пайта не доверял химическим удобрениям и возил с птицеферм куриный помет: «Землица-то моя, собственная». У нее странное имя — Фокси. Наверное, производное от девичьей фамилии. Ферфаксы из Вирджинии? На ней был заметен южный налет. Высокая, волосы с медовым отливом, постоянный румянец, как от ветра или лихорадки. Что-то точило ее изнутри, недаром она дважды надолго запиралась в ванной на втором этаже. Когда она спускалась во второй раз, Пайт умудрился заглянуть ей под юбку и узреть пепельно-желтые края чулок на опрокинутых колоколах ляжек. Она перехватила его взгляд, но не смутилась. Янтарные глаза! Вот что прячется порой под мехом ресниц, если его расчесать.
«Что ты сказала, Би? Я совсем оглох».
«Ты все слышал, милашка Пайт. Я напилась. Ты уж прости».
«Танцуешь ты божественно».
«Не надо насмехаться. Знаю, тебе нет до меня дела, у тебя есть Джорджина, где мне с ней тягаться? Она — чудо. А как играет в теннис!»
«Ты мне льстишь. Ты действительно считаешь, что я встречаюсь с Джорджиной?»
«Да ладно!» Певуче, глядя невидящим взглядом в сторону: «Можешь не отказываться. Эй, Пайт! Это ты?»
«Что? Я здесь. Ты не меняла партнера».
«Ты надо мной насмехаешься. Какой ты злой! Я тебя не узнаю. Эй, Пайт!»
«Да здесь я!»
«Я бы была с тобой добра. Рано или поздно тебе понадобится доброта, потому что сейчас — ты уже не злись — тебя окружают недобрые люди».
«Кто, например? Бедняжка Анджела?»
«Ты злишься. Я чувствую твою злость».
«Нет», сказал он и отошел. Ей стало не на ком виснуть, и она едва не шлепнулась, но тут же опомнилась, выпрямилась, обиженно заморгала. Он продолжил: «Так всегда бывает, когда сочувствуешь пьяным. Обязательно оскорбят».
«О!» — выдохнула она, словно ее ударили. «А я хотела по-доброму».
Побелка на окнах выдерживала не больше двух-трех дождей, но после войны химические компании придумали состав, доживавший до зимы, а зимой много света не бывает. Снаружи теплицу окружали мичиганские сугробы, внутри непрерывно звучало убаюкивающее бульканье — это пели безнадежно проржавевшие трубы, извивавшиеся по земляному полу, усеянному звездочками клевера. Детский крик во сне. Наверное, ей снится, что ее душат. Судя по голосу, это Нэнси. В три года она уже умела завязывать шнурки, а теперь, в пять, затеяла сосать большой палец и рассуждать о смерти. «Я никогда не вырасту и никогда в жизни не умру». Рут, ее сестра, которой исполнилось в ноябре девять лет, не могла этого слышать. «Умрешь-умрешь, все умрут, даже деревья». Пайт раздумывал, не заглянуть ли к Нэнси, но крик не повторился. Он напряженно прислушался к тишине и различил в вакууме мерный, как дыхание, скрип. Швейная машинка, заработавшая в ночи сама по себе? Да нет же, хомяк. На день рождения он подарил Рут хомяка. Зверек, похожий на рыжий кулек, весь день спал, зато ночами крутил свое колесо. Пайт поклялся, что смажет проклятую штуковину, а пока попытался совместить ритм своего дыхания с несносным скрипом. Нет, слишком быстро. Сердце раздулось от ускоренного биения, как мешок, в который затолкали сразу две мысли, показавшиеся ночью страшными: скоро он начнет застраивать жилыми домами Индейский холм; Анджела больше не хочет детей. У него так и не будет сына. Eek, ik, eeik. Успокойся. Завтра воскресенье.
По дороге проехал грузовик, и он долго прислушивался к затухающему звуку. В детстве он успокаивался, сосредотачиваясь на событиях ночи: проезжающих автомобилях, грохочущих поездах, их густом ворчании — сначала нарастающим, достигающим крещендо, потом затихающим. Ночи не было до него дела: то она открывала путь на Чикаго или Детройт, Каламазу или Бэттл-Крик, то заманивала в противоположную сторону, в снега, разрисованные цепочками звериных следов, на северный полуостров, куда можно было добраться только по воде. С тех пор успели построить мост. В детстве он представлял себя Суперменом со стальной непробиваемой грудью, упершимся ногами в один берег, руками в другой, несгибаемой дугой, вибрирующей от бега бесчисленных стальных колес. Затихающие свистки уносящихся в даль по равнине поездов казались тоненькой линией, набросанной остро отточенным, грозящим сломаться карандашным грифелем. Нет в природе ни точек, ни идеальных окружностей, ни бесконечности, ни потустороннего мира. Куда подевался грузовик? Он где-то рядом.
Ночью мало кто колесит в этом углу Новой Англии, между Плимутом и Квинси, Нанс-Бэй и Лейстауном. Пришлось долго ждать, пока снова не зазвучала колыбельная — урчание грузовика. Анджела зашевелилась, огибая какое-то препятствие в потоке забытья, в преддверии нарождающегося сна. Он вспомнил, как они занимались любовью в последний раз. Неделю с лишним назад, еще в прошлом времени года, зимой. Он долго старался, долго ее оглаживал, добиваясь отклика, но безрезультатно: она отчаялась достигнуть оргазма и попросила его побыстрее ей овладеть и больше не мучиться. После этого она с облегчением отвернулась, но он, забросив на нее вялую руку, вдруг нащупал неуместную твердость.