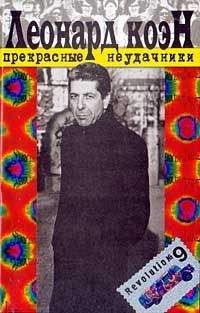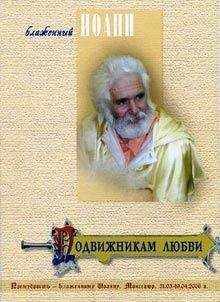Альбер Коэн - Любовь властелина
«Такая холодная — и в то же время в глубине души очень добрая, тетушка не умела выражать свои чувства, не показывала свою доброту. Это происходило вовсе не от бесчувственности, а от благородной сдержанности, и еще, может быть, от страха перед всем плотским. Никогда никаких ласковых слов, да и целовала она меня очень редко — и всегда только самыми кончиками губ легко касалась лба. Зато когда я болела, она по нескольку раз вставала ночью и заходила в детскую, чтобы проверить, не проснулась ли я, не раскрылась ли. Дорогая моя Тетьлери, никогда-то я не осмелилась вас так назвать».
«Надо упомянуть где-нибудь в романе мои детские богохульства. Я была очень набожна и при этом порой, когда принимала душ, у меня внезапно вырывалось: "Бог гадкий!" И тут же я кричала: "Нет, нет, я этого не говорила! Бог хороший, Бог очень добрый!" И потом это начиналось снова, я опять богохульствовала! Это было какое-то наваждение, и в наказание я била себя».
«А вот в голову пришло еще воспоминание. Тетьлери сказала, что самый страшный грех — против Святого Духа. Вечером в кровати я не могла устоять перед искушением и шептала: "А я грешу против Святого Духа!" Конечно, я не понимала, что это на самом деле значит. Но тут же в ужасе зарывалась в простыни и объясняла Святому Духу, что это была просто шутка».
«Тетьлери даже не подозревала, в какой ужас приводили нас с Элианой некоторые ее слова. Например, ей казалось, что для нашего же блага следует постоянно говорить с нами о смерти, чтобы приготовить нас к самому важному — вечной жизни. Нам было лет по десять — одиннадцать, когда она стала читать нам рассказы умирающих детей, которых в агонии постигало озарение и они слышали ангельские голоса. У нас с сестрой это вызвало какую-то истерическую манию, стало навязчивой идеей. Я помню, какой ужас вызвали вычитанные в календаре слова из Библии: "Ты умрешь и почиешь в Бозе". Когда младшая кузина Армиот пригласила нас с Элианой в воскресенье на полдник, я ответила ей: не уверена, что мы придем, потому что, возможно, почием в Бозе. С тех пор, хотя я и не утратила веру, но панически боюсь псалмов, в особенности того, что начинается: "Кому ты, Господи, откроешь врата в чертог пресветлый твой".[1] Невыносимо слышать, как люди в церкви хором выпевают эти гимны с фальшивой радостью, с какой-то болезненной экзальтацией, убеждая себя, что просто счастливы будут умереть — и при этом зовут доктора при малейшей болячке».
«Вот еще некоторые воспоминания, бегло, в нескольких словах, только чтобы не забыть. В романе я уже опишу их подробнее. Тетушкино вышивание по канве после утренней и вечерней молитвы. Молитву мы часто заканчивали псалмом "Как лань, утомленная летней жарой",[2] что вызывало у меня бешеный приступ смеха, который я еле сдерживала. Тетьлери еще долго молилась в одиночестве, три раза в день, всегда в одно и то же время, в своей спальне, и ее нельзя было в это время беспокоить. Однажды я подглядела за ней в замочную скважину. Она стояла на коленях, с опущенной головой и закрытыми глазами. Внезапно ее лицо озарилось удивительно прекрасной и странной улыбкой. Да, еще нужно вставить где-нибудь, что она ни при каких обстоятельствах не прибегала к помощи никакого врача, даже дядюшки Гри. Она верила в исцеляющую силу молитвы. Что касается ее страха перед всем плотским, о котором я уже говорила выше, нужно упомянуть о ее полотенцах в ванной комнате. Для каждой части тела было свое полотенце. Полотенцем для тела ни в коем случае нельзя было вытирать лицо. Это разделение, вызванное смутным страхом согрешить по неведению, мог придумать невежда — и святой. Нет, я, пожалуй, в романе не стану рассказывать эту историю про полотенца: не хочется выставлять тетушку в смешном виде. Я еще забыла сказать, что она никогда в жизни не прочла ни одного романа — все из-за того же отвращения к лжи».
«Теперь — только телеграфный стиль. После смерти Жака и Элианы мы с Тетьлери остались вдвоем на вилле, потому что дядюшка Гри уехал с миссией в Африку, лечить больных туземцев. Моя религиозная истерия. Я больше не верила — или верила в то, что больше не верила. В нашем кругу это называлось кризисом опустошенности. Я решила сдавать экзамены на филолога. В университете я познакомилась с Варварой Ивановной, тонкой и умной девушкой, русской эмигранткой. Мы быстро подружились. Она казалась мне очень красивой. Мне нравилось целовать ее руки, ее румяные щеки, ее тяжелые косы. Я постоянно думала о ней. В общем, это была любовь».
«Тетьлери совсем не нравилась эта дружба. "Русская, тцц, я тебя прошшу!" ("прошу" вырывалось с шипением, как струйка пара). Она не желала знакомиться с Варварой, но и не запрещала мне с ней видеться, и этого было достаточно. Но однажды к нам пришли полицейские, чтобы навести справки о некоей Сияновой, временно проживающей в Женеве. Меня дома не было. От полицейских Тетьлери узнала две ужасные вещи. Во-первых, что моя подруга принадлежала к партии меньшевиков, другими словами русских революционеров. Во-вторых, она была любовницей руководителя группы, высланного из Швейцарии. Вечером, когда я вернулась домой, тетя приказала мне немедленно порвать все отношения с этой порочной особой, которая стоит на учете в полиции и к тому же революционерка. Я возмутилась. Расстаться с моей Варинькой? Да никогда! И вообще, я была уже взрослой. Тем же вечером я собрала вещи, мне помогла наша старая служанка Мариэтта.
Тетьлери закрылась в комнате и отказалась выйти ко мне. Я ушла. Интересно, получится из этого роман? Ну, я продолжаю».
«Мы с подругой сняли комнату в городе — маленькую и довольно убогую. Своих денег у меня было очень мало: папа потерял почти все состояние в результате каких-то сложных финансовых махинаций, приведших к краху. Но мы были счастливы вдвоем. Мы вместе ходили в университет, я на филологический, она на факультет социальных наук. Студенческая жизнь. Маленькие ресторанчики. Я даже начала немного пудриться, чего никогда не делала, живя у тетушки. Но что касается губной помады, я никогда ею не пользовалась и не буду. Это так пошло, так вульгарно. Я начала учить русский, чтобы говорить с Варварой на ее родном языке, чтобы стать еще ближе. Мы спали вместе. Да, это была любовь, но чистая любовь — почти… однажды в воскресенье я узнала от Мариэтты, которая часто ко мне заходила, что тетушка уезжает в Шотландию. Мое сердце сжалось: я понимала, что именно из-за меня, из-за той жизни, которую я вела, она обрекает себя на добровольное изгнание».
«Несколько месяцев спустя, во время пасхальных каникул, Варвара призналась мне, что больна туберкулезом и больше не может ходить в университет. Она скрывала это, чтобы меня не расстраивать и к тому же не усугублять наше и без того плачевное финансовое состояние поездками в горы на лечение. Я тут же отправилась к ее лечащему врачу — и узнала, что уже слишком поздно для лечения в санатории и жить ей осталось от силы год».