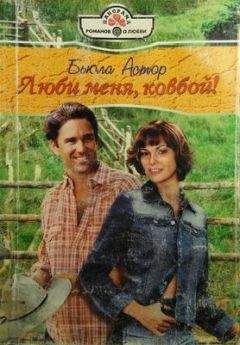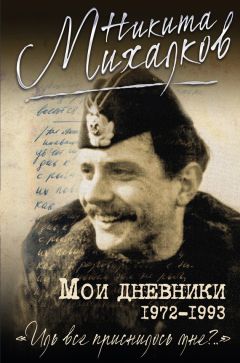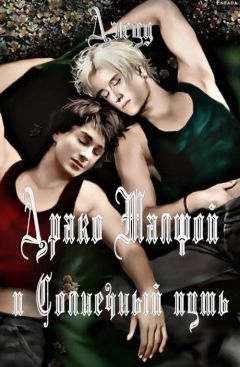Алина Дворецкая - Сон
— Тамарка, ты можешь считать меня жлобом, но мне действительно просто хочется посмотреть, что там внутри. Я плачу, сколько бы это ни стоило.
— Наверно, ты разбогатела, как болтала всем, уезжая, — саркастически заметила Тамара.
— Ну да, — засмеялась Мила, — актрисой вот, правда, не стала.
— Когда ты уехала, — продолжала Тамара, — все наши, встречая меня, интересовались, как ты там, скоро ли будут фильмы с твоим участием и вообще. А где ты работаешь?
— Я домохозяйка, — сказала Мила.
— Да? Сколько у тебя?
Мила не сразу поняла суть вопроса; в ее ответе на постоянный этот вопрос она скрывала всю боль невозможности получить желаемое никогда, никогда:
— Мы пока не завели детей.
— И сидишь дома? А деньги откуда? Старый толстый муж?
Это тоже был постоянно задаваемый Миле вопрос; даже когда кто-то из ее старых знакомых видел Володю (умный, богатый, молодой, красивый), то все равно почему-то считали, что она вышла замуж из-за денег («ну ты отхватила себе мужика, подруга, молодец, умно, умно»). Она не могла и не хотела объяснять. Ей было бы много проще и удобней, если бы он был беден (однокомнатная квартира, «Жигули», не думать о деньгах на еду — вполне достаточно для счастливой жизни), но если получилось так, если она полюбила его такого? Если у него, в плюс ко всем прочим его несомненным достоинствам, еще и были деньги — почему Мила должна была отказывать себе во всех этих удовольствиях, почему должна была стесняться своего богатства («состоятельности», — говорил Володя, от слова «состояние», наверно)?
Она была холодна с Володей вначале, первое время после их знакомства — и только из-за его денег… Боже мой, как ей хотелось, чтобы все было не так красиво, зачем эти черные гладкие простыни, и почему пить чай нужно из этого дорогущего английского сервиза, хрупкие малахитовые чашки было страшно держать в руках, и какого черта эти немыслимые рестораны, где она все равно чувствовала себя неловко в самосшитом вечернем платье… пока вдруг, оглянувшись на всю свою прошлую жизнь, странную и спутанную, она не увидела, как отталкивала всегда всю красоту окружающего, не умела наслаждаться данным, и любое посвященное ей чувство умела снизить до похабства, до анекдота, купаясь в чужой любви, как поросенок в грязи, и ничего не давая взамен, и ничего не чувствуя, ничего, не умея даже получить удовольствие от того, что ей давалось… Оглянувшись, ужаснулась… И вот сейчас это первое ее чувство к Володе, первое, потому что вообще НИКОГДА никого не любила, кроме себя, себя во всем, своих стихов, своей одежды, своих запахов, своих отражений в зеркалах, своих гримас… она боялась новизны появившихся желаний, боялась всего того, что возникало в ней… она все время торопилась куда-то… И к тому моменту, когда он смирился — ладно, пусть будут гамбургеры из «Кэрролса», и песенки любимой Милиной Анжелики Варум, и давай загорать на лужайке у дома на старом одеяле, и куплю тебе белые льняные простыни, и носи себе на здоровье мужские ботинки, и вообще делай что хочешь, — она вдруг вошла во вкус ко всему красивому… и иногда только плакала, в его редкие ночные отсутствия, вдруг он тоже не верит, что она его любит, вдруг он думает, что она просто привыкла к его ворсистым коврам, и к его посудомоечной машине, и ко всему, что носит название «комфорт»… бесполезно было это объяснять кому-либо.
И Тамаре она объяснять ничего не стала, сказала, что все расскажет при встрече, но надеялась внутри, что ничего не придется объяснять… есть же на свете какие-то обычные, обыденные слова, которыми можно сказать все просто, лишь обозначить факты, но не раскрывать душу…
На встречу Мила одела красное платье от Версаче, из бутика, узкое и нагло короткое; оно было куплено ею весной, в Москве, перед поездкой в Европу, абсолютно спонтанно, но удивительно подошло под цвет купленного позднее «бьюика»; последовавшая внезапная смерть знаменитого кутюрье придала этому кровавому чуду особую ценность, равно как и любимым Милой черным хлопковым джинсам с солнцеобразным барельефом Медузиной головы на заднице (предшествующая копия этих штанов, с прорезями Милиного исполнения на полустертых коленках, одевалась в дни генеральных уборок, когда вооруженная пылесосом Мила победно шествовала из комнаты в комнату, помогая пушистым коврам освободиться от накопленной за неделю пыли). Володя довез Милу до сверкающей вывески «Harley Davidson»; Мила попросила заехать за ней через пару часов:
— Только не заблудись.
— Ну теперь уже нет, надеюсь.
Он заглянул вместе с Милой вовнутрь: нет, никакого намека на опасность; абсолютно пустой ресторанчик, каких сотни в Питере, например; обитые черной кожей (вернее, материалом «под кожу») стены с круглыми блестящими заклепками, черные столики, удобные черные стулья; в глубине — стойка бара, скучающий бармен в кожаной жилетке (оживился и привстал, увидев потенциальных посетителей), еще дальше — дверь на кухню; на высоком помосте — шикарный «харлей», как памятник самому себе. Тамары, конечно же, еще не было; Мила вспомнила, как любила ее подруга опаздывать везде и всегда. Володя ушел; Мила видела через окно отъезжающий «бьюик» и представила, как будет поражена Тамарка, когда за Милой приедет столь красивый автомобиль и из него выйдет высокий мужчина… вот это мой муж, а как вы думали, уверенный, респектабельный, в белом костюме… Мила представит его небрежно, она любила это делать, а потом сама сядет за руль и отвезет Тамару куда ей там надо. Володя собирался испортить ей это удовольствие: он предложил Миле самой ехать в «Harley» на «бьюике» и на нем же вернуться; но тогда бы Тамара не увидела ее мужа, а слова «молодой и красивый» могли прозвучать недостаточно убедительно в Милином исполнении… короче, Мила сослалась на то, что было бы неосторожно бросать «бьюик» вечером на улице в непосредственной близости от Центрального рынка («так же небезопасно, как ночью в Нью-Йорке у Центрального парка»), хотя оба они не придавали значения этим шуточкам про Нью-Йоркский парк, это все был доперестроечный страх Коротича, изложенный в какой-то его публицистической книжке; но образ был схвачен.
Мила заказала себе молочный коктейль для начала, в ожидании Тамары, и огляделась повнимательнее. Все-таки что-то странное было в этом кафе… пустота какая-то… стены, столики, мотоцикл… черный потолок, слишком все просто, без подробностей… как во сне. Впрочем, таким, наверно, и должен быть байкерский бар… стиль диктовал.
— У вас тут собираются байкеры? — спросила Мила у подошедшего бармена (нес длинный бокал на серебристом подносе, осторожно, осторожно, так, как будто впервые держал поднос в руках). Бармен удивленно поднял брови, резко выброшенной вперед рукой поставил бокал перед Милой.
— Мотоциклисты, — уточнила Мила.
— Нет, — односложно ответил тот, но остался стоять навытяжку, ожидая, вероятно, новых вопросов или просьб; они были вдвоем в большом темном помещении (новый владелец снес все перегородки между кабинетиками женской консультации, но слабое уличное освещение едва проникало в узенькие многочисленные окошечки вдоль левой стены), и Мила почувствовала себя немного неловко.
— Я подумала, это ресторанчик для мотоциклистов, — сказала она, разглядывая нелепую прическу бармена (хотел, вероятно, причесаться «под Мики Рурка», но волосы плохо лежали). — Судя по названию.
— Вы приезжая? — спросил бармен и посмотрел в одно из окон, туда, где десять минут назад красовался Милин «бьюик».
— Я здесь родилась, — объяснила Мила. — Вот, решила встретиться в вашем ресторанчике со школьной подругой. Ей, кстати, пора бы уже появиться. Я подумала, это специальное местечко для мотоциклистов. Мне понравилось название. Это очень так… стильно. Во времена моей юности здесь была какая-то клиника.
По Милиному мнению, бармен должен был быть удовлетворен ее рассказом; между тем он вдруг как-то странно помрачнел.
— У нас в городе запрещено ездить на мотоциклах, — сказал он после паузы, — и в области тоже. Слишком много аварий. В позапрошлом году, когда под мотоциклом погибла пара близнецов в коляске, вышел закон…
— Подождите, — удивилась Мила, — но я же видела в городе мотоциклы. Два раза, я точно помню, это были как раз «харлеи». Я еще подумала…
— У нас в городе нет мотоциклов, — сказал бармен, нетерпеливо прерывая ее. — Тот закон очень строгий… по сути, владение мотоциклом приравнивается к владению оружием. Это заведение — всего лишь игра слов. Мы открылись приблизительно через месяц после выхода закона… и хозяин решил, что кафе будет… приятным рудиментом, он сказал. Воспоминанием, короче. Этот мотоцикл — единственный в городе.
— Но я же видела своими глазами… — начала Мила.
— Вероятно, вы ошиблись.
Мила решила не спорить. Бармен (теперь он казался ей сумасшедшим) спросил, не хочет ли она еще чего-нибудь («нет, спасибо, немного позднее») и отошел. Тамара категорически опаздывала. Мила медленно тянула коктейль через соломинку — странный горьковатый вкус, миндаль и черника. «Харлей» угрюмо поблескивал на черном помосте, как труп, как призрак мотоцикла. У Милы начинало портиться настроение. Эта странная беседа с барменом… один из них двоих непременно был сумасшедшим… если, конечно, все это не снилось Миле.