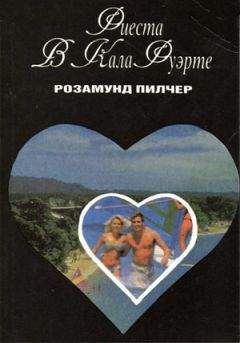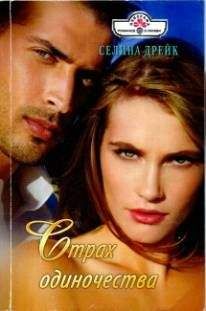Джонатан Майлз - Дорогие Американские Авиалинии
Однако я опять отклонился от темы, верно? Французские поцелуи и все такое. Дорогие Американские авиалинии, я прошу прощения. Пожалуйста, поймите, что сейчас у меня не лучшее время. Только что на улице, возле багажных тележек, старушка, курившая рядом, рассказала мне мрачнейшую историю: у ее мужа «закупорило венечную», когда он вел машину, и бедняга вылетел на своем «фиате» с горного обрыва в Центральной Калифорнии, но ремень безопасности спас его от гибели, и вместо этого мужик превратился в овощ и уже четыре года таким и остается. Его дорогая женушка — вылитый жевун из страны жевунов — сидит подле него шесть дней в неделю, карауля случайный трепет века, который вернет его в ряды млекопитающих. Рассказывая мне все это, она отрыла в своей напоясной сумочке пачку бумажных платков. Я думал, для себя — такая история удостаивала ее права сронить слезу, — но она протянула их мне. Я всегда отличался умением держать душу нараспашку, и, думаю, лицо мое было скорбное до кислятины, это за мной не заржавеет. Я начал отказываться от подношения, но она стала выискивать в подсумке что-то еще. Я испугался, что это окажется фото — натюрморт с ее интубированным мужем, от такого я и разрыдаться могу, но старушка достала маленькое устройство, похожее на упитанный мобильник. Карманный игровой автомат — объяснила почтенная дама. Он-то и спасает ее рассудок, сказала старушка, и настояла, чтобы я крутанул несколько раз — в «виртуальном» смысле, конечно, — что я и сделал. Вишенка, семерка и фрукт вроде лимона! Две семерки и вишенка! Проигрыш и еще худший проигрыш. И тогда старушенция заявила, что жизнь, «ей-бо», требует от нас только одного — найти повод прожить нынешний день. А потому она не только поддается азарту посредством маленького видеоавтомата, но еще каждый день получает посылки: свитерок из «Эл-Эл Бина» или новую садовую лопатку из «Смита энд Хоукена». Так что она пребывает в постоянном предвкушении. Перед тем как вернуться в здание — «Я слышала, у них кончаются раскладушки для нас, сидельцев», — она велела мне забрать платки и не распускать нюни.
Не против, если мы проверим, как там Валенты? Заглянем на минуту-другую, пока нюни у меня подобраны. Вот он, на 17-й странице, только что сошел с поезда в Триесте:
Сочные краски застали его врасплох. Три года он не видел никаких цветов кроме мясной багровости ран и алости кровавых брызг; все прочее было окрашено в жесткие выгоревшие оттенки серого, бурый и черный. Грязь, сталь, ржавчина, дым, ночь, головешки, колючая проволока, лопаты, пепел, мертвые тела, туман, минометные стволы, кости, дворняги с впалыми животами, что рычали, свернувшись за грудами щебня. А вот выйдя из вагона, он словно окунулся в радугу. Сам вокзал, желтый как маргаритка, просто начинен красками: там праздничная вспышка летнего платья, там розовая опушка дамской сумочки с завязкой, тут фосфорический отлив синего костюма на коммерсанте — и россыпь нежно-розового конфетти использованных билетов на вощеном полу.
«Конфетти» — тут я позволил себе маленькую вольность. У Алоизия это Swiateczne odpadki, что в буквальном переводе означает «праздничный сор». Но какой сор праздничнее, чем конфетти? Ах, крошечные радости перевода. Ладно, продолжим…
Ему обожгло глаза, дыхание сперло. О том, что война — не просто вчерашний дурной сон, свидетельствовали лишь несколько новозеландских солдат-часовых по углам и безжизненность фальшивой ноги, которой Валенты шаркал по полу.
Он устроился за столиком в вокзальном кафе, головокружение и шок не проходили, и он для устойчивости ухватился за столешницу. Принять заказ подошла черноволосая девочка с матовой смуглой кожей, и незамутненность ее лица — смесь скуки, мечтательности и мягкого безразличия — ясно показала Валенты, что в жизни этой девочки еще не было никаких утрат, пока никаких. Он заметил небольшой шрам в форме рыбки на ее локте — наверное, упала в младенчестве. Конечно, плакала — скрипучими, визгливыми воплями, которые ассоциировались у Валенты с детским плачем, пока он не пошел на войну и не узнал, на что в действительности способны дети. Утробный вой абсолютной потери.
— У вас есть кофе? — спросил он.
— Да, — ответила она.
— Sarageto?
— Нет. Кофе.
— Тогда пожалуйста. Чашечку.
Когда она вернулась с кофе, Валенты заметил, что она медлит и украдкой разглядывает его протез, обнажившуюся механическую щиколотку. Он поймал ее взгляд.
— Болит? — спросила она.
— Нет, — ответил он. — Не болит. Больше не болит. Только напоминает. Как мысль, которая засела в черепушке, и никак от нее не избавишься.
Он не хотел ее отпугнуть, не хотел, чтобы она приняла его за унылого калеку, увечного солдата с плаката, и потому улыбнулся. Только вот улыбка вышла перекошенная и неловкая, будто лицевые мышцы забыли, как это делается. Он боялся, как бы его улыбка не показалась оскалом.
Девочка кивнула с непроницаемым видом и пошла обслуживать других клиентов. Когда она вернулась, Валенты попросил еще чашечку кофе и, когда она принесла, сказал:
— Знаете, что странно?
Девушка ждала, и Валенты продолжил:
— Во сне у меня всегда обе ноги. Вот это, кажется, хуже всего. Каждое утро, когда кончаются сны, я просыпаюсь целым. Потом тяну руку и нащупываю свой протез, и все, что со мной приключилось, случается снова, в эти мгновения все снова, и каждый день я будто бы теряю ногу и теряю друзей в первый раз. Это хуже всего. Я засыпаю в прошлое.
Он не ожидал, что девочка улыбнется этим словам, но она улыбнулась. И просто сказала:
— Вам нужны новые сны.
Сказала так, будто это очевидно, словно он заявил, что голоден, а она посоветовала, что заказать. У нее это вышло легко.
Разумеется, это не легко, но, конечно, мы не вправе обвинять Валенты за то, что он ставит по ветру новые надежды. Как утешительно думать, будто прошлое — излечимое состояние, доброкачественная, а не злокачественная опухоль, правда? Это почти такая же утешительная идея, как мир, где билет ценой в 392 доллара 68 центов обеспечивает тебе прибытие на место в отпечатанные на нем день и час. Но и такая же чертова невозможность.
Ну и раз уж мы вроде как стали заглядывать в прошлое, почему бы нам, дорогие Американские авиалинии, не подумать, как можно было избежать всей этой неразберихи? Ваше официальное объяснение в виде плохой погоды никуда не годится, ведь я полностью его аннулировал бесконечными проверками атмосферы за бортом — прохладной, но весьма приятной, с легким ветерком, переменчивым, как ваше расписание рейсов. И гарантирую, что приятность к утру лишь усилится. Так что выкладывайте. Может, переуплотнять график вас заставляет вечная пошлая жадность, как у грабителей в банке, которые не в силах остановиться и все набивают мешки, не обращая внимания на приближающийся вой сирен? (Загляните в тот кабинет в углу. Видите жирных мужиков, что теребят пышные усы, уставившись на карту внутренних рейсов? Вот она, воплощенная жадность.) Или у вас все рассчитано так плотно и точно, что задержка одного самолета, скажем, в Далласе может вызвать такой же затор, какой провоцирует тягач, заглохший в половине девятого утра на мосту Джорджа Вашингтона? Или же авиакомпании подвержены своеобразному эффекту бабочки, и задержка, возникшая по вине пьяного пассажира, пытавшегося сесть на утренний самолет из Ибицы, способна аукнуться цепной реакцией, и задержка начинает громоздиться на задержку, отмена рейса на отмену, пока несчастный аэропорт О’Хара — козел отпущения воздушного транспорта — не закрывается напрочь? Если так, то, выходит, я к вам слишком суров. Может, мою телегу надо направить сеньору Фабио Евромудьо, который в шесть утра вывалился с залитого пеной танцпола с кипящими в брюхе шестнадцатью банками «Ред булла» пополам с водкой и чью раскоряченную задницу никак не могли извлечь из самолета после неуклюжей попытки предвзлетной автофелляции в кресле 3F, что и вызвало бессрочную задержку вылета. Но тогда и на этом не стоит останавливаться. Прошлое можно разматывать до бесконечности, в том и прелесть. В конце концов, почему вам не возразить здраво, пусть и ехидно, что во всей этой катавасии целиком виноват я сам, поскольку двадцать лет назад смыл в унитаз собственную жизнь. Вжик! Молодцом, АА. Или, отступим еще назад, это Вилла Дефорж виновата, что однажды душной ночью в середине столетия в Новом Орлеане позволила поляку с горестными глазами сделать ей ребенка. Йох, удар исподтишка! Хотя забавно, что мисс Вилла тут бы с вами согласилась. Если бы у нее хватило логики, она возложила бы вину за все на свете — от Пол Пота до парникового эффекта и дырок на носках — на ту влажную безоглядную ночь, которая стала концом для нее и началом для меня.
А началась она, если по правде, с опоссума. Устраивайтесь поудобнее, я вам кое-что расскажу. Время у нас, похоже, есть.