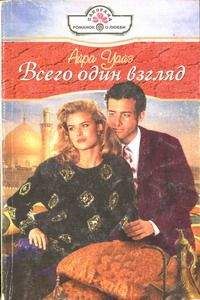Бустос Домек - Рассказы
Его ответ я выслушал, разинув рот от удивления.
— Подозревал, что вы зайдете с этого боку. Спешу признать, что чинить препятствия порнографу — вещь не особо симпатичная. Но эти громкие случаи лишь цветочки, лишь одна сторона дела. Мы брызжем слюной, обрушиваясь на нравственную и политическую цензуру, и забываем о других ее разновидностях, гораздо более опасных. Моя жизнь — если позволите ее так назвать — являет собой поучительный пример. Сын и внук предков, неизменно проваливавшихся за экзаменационным столом, я с детства был обречен на выполнение самых разных дел. Именно так меня увлек водоворот, в котором чередовались начальная школа, приработок подносчиком кожаных чемоданов и сочинение урывками кое-каких стихов. Последний факт, сам по себе малоинтересный, возбудил любопытство беспокойных голов Машвица и тотчас стал передаваться из уст в уста. Я ощутил, как среди жителей городка, подобно мощному приливу, без различия пола и возраста, растет единодушная готовность встретить мои первые публикации в газетах. Такая поддержка побудила меня отправить почтой в специализированные журналы оду «В путь!». Ответом был заговор молчания, а одно литературное приложение мне ее просто вернуло, за что я ему премного благодарен.
Там вы можете увидеть конверт, в рамке.
Я не пал духом. Мой второй штурм приобрел массированный характер. Одновременно я разослал, как минимум, в сорок органов сонет «В Вифлееме» и затем, не прекращая бомбардировки, децимы «Я поучаю». Поэму «Изумрудный ковер», сочетающую несколько размеров, и клубок-овильехо «Ржаной хлеб», постигла, вы не поверите, та же участь. За сим странным приключением благожелательно и напряженно следили руководство и персонал нашей почты, не замедлившие предать его огласке. Предугадать результат было несложно: доктор Палау, наша главная гордость и оплот, назначил меня заведующим литературным приложением газеты «Ла Опиньон», выходящим по четвергам.
Я отдал этому общественному служению почти целый год, пока меня не выгнали. Прежде всего, я был беспристрастен. Ничто, уважаемый Бустос, не тревожит мою совесть в ночные часы. Если однажды я и поместил детище моей музы — стихотворение «Ржаной хлеб», вызвавшее бурную кампанию в виде проплаченных или анонимных заметок, то сделал это под надежным псевдонимом Мичмана Немо, с намеком на героя Жюля Верна, намеком, который не все уловили. Но не только поэтому мне указали на дверь. Все кому не лень винили меня в том, что четверговое приложение стало едва ли не мусорным ведром или, если угодно, гнусной парашей. Видимо, они имели в виду весьма низкое качество присылаемых и публикуемых сочинений. Обвинение, несомненно, было справедливым, чего не скажешь о понимании принципа, служившего мне ориентиром. Более, чем наихудших Аристархов, меня по-прежнему тошнит от ретроспективного чтения той ахинеи, которую я, даже не листая, передавал сеньору управляющему типографией. Как видите, я говорю с вами, положа руку на сердце: коли отдал конверт на линотип — тут уж все едино, и я даже не трудился разобрать, проза это или стихи. Поверьте, в моем архиве хранится бесценный экземпляр, в котором дважды или трижды повторяется басня, списанная у Ириарте и скрепленная неразборчивой подписью. Реклама чая «Солнце» и парагвайского мате «Кот» произвольно чередовалась с прочими литературными опусами, среди которых попадались стишки, обычно оставляемые в уборной безработными. Не было недостатка и в самых незаурядных женских именах, сопровождавшихся номером телефона.
Как и предполагала моя супруга, доктор Палау наконец-то рассвирепел и со всей ответственностью заявил, что с литературным листком кончено и что он не собирается благодарить меня за оказанные услуги, так как ему не до шуток, и чтобы я поскорее убирался восвояси.
Скажу откровенно: по-моему, увольнение следует объяснить, как это ни покажется невероятным, нечаянной публикацией замечательной поэмы «Набег», воссоздающей весьма любимую в округе историю — опустошительный налет индейцев из пампы, учинивших поголовную резню. Историческую достоверность трагедии подвергают сомнению многие ниспровергатели фигуры Сарате. Это, однако, вдохновило на создание восхитительных строф Лукаса Палау, аукциониста и племянника нашего главного редактора. Когда вы, юноша, соберетесь на поезд, а времени остается немного, я покажу вам упомянутую поэму, которую храню в рамке. Я опубликовал ее, согласно моим правилам, даже не взглянув на подпись и текст. Поэт, как мне сказали, не мешкая завалил нас новыми виршами, которые тщетно ждали своей очереди, ибо я все печатал строго в порядке поступления. Нелепости громоздились одна за другой, я все тянул с публикацией, но непотизм и нетерпение переполнили чашу, и мне пришлось пробираться к выходу. Я ретировался.
Эту тираду Гоменсоро произнес без горечи и с очевидной искренностью. Я слушал с лицом человека, который созерцает пролетающую мимо свинью, и не скоро смог вымолвить:
— Может, я тупоумный, но до конца не улавливаю. Хочу понять, хочу понять.
— Ваш час еще не пробил, — прозвучало в ответ. — Судя по всему, вы не из здешних, любезных моему сердцу краев, но в силу тупоумия — если следовать вашей суровой, сколь и объективной аттестации — вполне могли бы сойти за местного, так как ни словечка не поняли из того, что я вам втолковываю. Еще одним свидетельством широкого непонимания стала инициатива Почетного комитета, предложившего мне войти в состав жюри конкурса поэтов, который снискал немалую славу нашему бурно растущему городку. Они совсем ничего не поняли! Верный своему долгу, я отказался. Угрозы и посулы разбились о мою решимость свободолюбивой личности.
На этом, с видом человека, давшего ключ к разгадке, он принялся потягивать через трубочку горький мате и углубился в свой внутренний мир.
Когда с содержимым небольшого сосуда было покончено, я осмелился пролепетать тоненьким голоском:
— Я по-прежнему не понимаю, мой дорогой шеф.
— Ладно, скажу доступными для вашего уровня словами. Те, кто, вооружившись пером, подрывает добрые нравы или основы государства, надеюсь, не могут не знать, что они рискуют разбить лоб о непреклонность цензуры. Факт возмутительный, но он предполагает некие правила игры, и нарушающему их остается пенять на себя. Посмотрим, что происходит, когда вы лично являетесь в редакцию с рукописью, которая, как ни крути, представляет собой полный бред. Ее читают, возвращают и советуют поместить, куда вам будет угодно. Держу пари: вы выйдете оттуда в уверенности, что стали жертвой самой безжалостной цензуры. Теперь предположим невероятное. Представленный вами текст далек от кретинизма; издатель принимает его и отправляет в типографию. В киосках и книжных лавках его предложат вниманию доверчивых простаков. Вас ожидает полный успех, но непреложная истина, уважаемый юноша, состоит в том, что ваша рукопись, будь она ахинеей или нет, вынуждена была пройти через беспощадные жернова цензуры. Кто-то ее просмотрел, пусть даже de visu[5]; кто-то оценил, кто-то бросил в корзину или направил в типографию. Как это ни постыдно, такое повторяется постоянно — в любой газете, в любом журнале. Мы всегда натыкаемся на цензора, который выбирает либо отвергает. Именно этого я не терплю и терпеть не собираюсь. Теперь вы понимаете, чем я руководствовался, когда заведовал литературным приложением? Я ничего не читал, ни о чем не судил. Всему находилось место в приложении. В ближайшее время случай, в виде нежданного наследства, позволит мне составить наконец «Первую открытую антологию национальной литературы». Вооружившись телефонным и прочими справочниками, я обратился к каждому из ныне живущих, в том числе и к вам, с просьбой присылать мне все, что заблагорассудится. С полным беспристрастием я буду публиковать авторов строго по алфавиту. Не беспокойтесь: все предстанет в печатном слове, даже самая грязная пачкотня. Не смею вас задерживать. Я, кажется, слышу гудки поезда, который вернет вас к повседневным трудам.
Я вышел, наверно думая: кто бы мог предположить, что первый визит к Гоменсоро окажется, увы, последним. Задушевная беседа с другом и учителем не возобновится уже, по меньшей мере, по эту сторону Стикса. Несколько месяцев спустя в усадьбе Машвица его унесла неумолимая смерть.
С отвращением отметая какой-либо принцип отбора, Гоменсоро, как говорят, перемешал в бочонке записки с именами сотрудничающих авторов, и в этой лотерее я вышел победителем. Мне выпало состояние, сумма которого превосходила самые блистательные мечтания моей алчности, при единственном условии — в кратчайшие сроки опубликовать полную антологию. Я согласился с вполне понятной поспешностью и перебрался в усадьбу, некогда радушно принявшую меня, где сбился с ног, пересчитывая огромные сараи, забитые рукописями, которые уже приближались к букве «В».