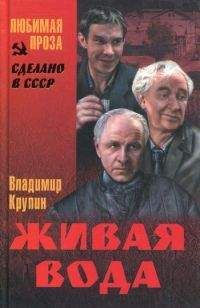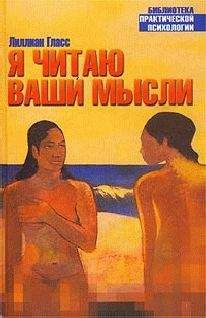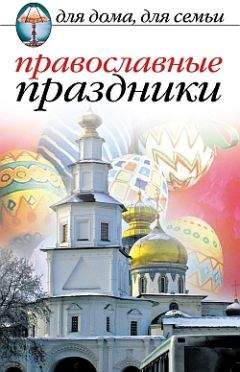Владимир Ионов - Успение
Кто уж доложил обо всём начальнице стройконторы, теперь не вспомнишь, но тогда она вызвала его к себе и заставила долго выстоять посреди кабинета. Он сначала всё ждал, чего она скажет, и стыдился своего грязного вида перед интересной начальницей, потом забылся, закрыл глаза, стал пришёптывать в бороду невесть какие слова.
— Пьёшь, Опёнков? — вернула его к памяти начальница. — Упиваешься до затмения головы и религиозного дурмана? Опустился. Хоть бы ради моего вызова побриться сходил. Нехорошо такой пример показывать бригаде.
Павел не нашёлся, что сказать начальнице, продолжал стоять молча перед её глазами, и она объявила, что разжалует его из бригадиров.
«Господи, как же теперь заработка-то всем хватит?» — помыслил он в голове, но вслух не спросил.
В бригаде новость встретили без радости и пожалели Павла тем, что вскладчину купили водки, выпили сами, угостили его. Пустой желудок Павла водку принял, но голова у него отнялась, и, шатаясь по городу, он кричал такие песни, каких здесь мало слыхали и стыдились понимать.
После этого случая его и вовсе рассчитали из строительных работников с такой надписью в трудовой книжке, от которой паспорт его стал называться «волчьим». Когда Федор растолковал ему насчёт паспорта, Павлу захотелось помереть от тоски. День он проторчал за забором стройконторы, на краю ямы с растопленным битумом, глядел, как трепыхаются влипшие в битум комары, бабочки и даже птица, устрашился такой липкой смерти, пошёл в город. Господь привел его к Любашиному палисаднику, и там Павел окончательно потерял силы и долго лежал у калитки поперёк тропки. Может бы, он тут и помер, но случилось, что Любаша увидела его и привела в дом. Сколько-то дней он пробыл у нее в беспамятстве, и Любаша, прибегая с работы, поила его горячим молоком, а когда он засыпал, она тайком разглядывала его лицо, измученное внутренним беспорядком мыслей. Раньше Павел был невысоким, красивым мужичонкой, а теперь зарос дикой бородой и грязью, но она вспоминала его прежним и представляла, как обиходит его, вернёт ему силу и красоту его и как устроит с ним своё забытое тихое счастье.
Павел поправлялся быстро, и однажды проснулся совсем здоровым. Любаша собрала ему крепкое мужнино бельё и проводила в баню. Из того белья она хотела выкроить что ни то сыну, но пожалела Павла. Пока Павел парился, она перебрала постель, сменила наволочки на подушке и отвела сына погостить к бабке. На обратной дороге от бабки забежала в магазин, купила бутылку вермута и кило варёной колбасы по знакомству, а у бабки ещё взяла свежего варенья к чаю. Всё это получилось у неё споро, с той лёгкостью, какая только и бывает у вдов, когда они ждут скорого счастья от возвращения ласковой тоски, давно не бродившей в теле.
Павел вернулся задворками — улицей идти в Любашин домик было совестно. В бане подравнял волосы, оправил бороду и стал опять красивым мужиком. В доме он присел на лавку к столу с гудящим самоваром и смирно стал ждать неведомого продолжения всего происходящего с ним сегодня. Любаша устроилась напротив, суетилась руками по столу и прятала от Павла улыбки, которые сами собой выкатывались на пересыхающие губы.
— Ты как священник стал при бороде-то, — сказала она.
— Густая выросла, — ответил Павел.
— Гребёнка у меня сломалась. Ты возьми половину бороду-то чесать.
— Возьму, а то сваляется, не раздерёшь.
— Возьми-ко, верно. А то есть гребень роговый. Его возьми, коли хочешь.
— Вино, как причастие Господне… «Прими тело Христово и кровь Христову…»
— Чай покрепче любишь? Я-то — жиденький, а то спать мешает. Вот вареньице. Лесная ягода. За льнозаводом сеча есть, земляники — накрасно.
Они и дальше говорили всякие слова, не имеющие для них значения. Значение было в другом, чего не скажешь, что само собой приходит неведомо из какой глубины, занимает всё нутро человека и загораживается от внешнего взгляда малыми словами. И тот, и другой понимали это и потому суетились в словах, стараясь не выдать себя, предоставляя главное значение существа своего нечаянному случаю или времени, которое поборет остатки незначащих слов. И за вином, и за чаем Любаша и Павел не говорили имён друг дружки, потому что обоим казалось — в звучании их есть нечто такое, что сразу выдаст их, откроет друг перед другом.
Свет в доме не горел, на улице уже смеркалось, и лица их перестали быть телесными от потёмок, а они всё сидели на своих местах. Вино было выпито, и самовар уж простыл, и слова перестали говориться, и молча, без движения нельзя было больше сидеть. Любаша ждала, что вот-вот он поднимется с лавки, глянет на неё, может, тронет рукой и скажет: «Ну, так что же, Любаша?» И тогда она метнётся к нему и замрёт в руках его, и утонет в нахлынувшей тёплой волне. Она вздрагивала и обмирала от каждого шороха, а Павел застыл на лавке, будто задеревенел. Внутри его жили те же движения, что и у Любаши, но сверх их был ещё и страх, гудевший над ним его же собственным голосом, растроённым тремя сводами храма святого Афанасия: «Единого Тебя люблю, Господи, Единого и Единому Тебе отдаю плоть свою и дух свой…» Страх этот свалился с высоты его памяти и встал теперь между ними лишним свидетелем и стал рушить единое и неразделимое желание человеческого существа Павла Опёнкова.
— Засиделись мы, а, поди, уж и спать пора, — произнесла Любаша и подождала, когда поднимется с лавки волосатый её кавалер, но, не дождалась, сама поднялась. — Ложись-ко, а я скоро приду.
Она вышла на улицу на затёкших ногах, прижалась спиной к нагретым за день брёвнам дома и услышала, как знобит её тем ознобом, какой был после свадьбы, когда она пряталась от жениха в потёмках двора и ждала, чтобы он поскорей отыскал её. «Он простит мне мой грех, — вспоминала она мужа, убитого войной. — Что уж мне делать с собой? Как бы он живой был… А покойный-то простит… Что уж мне теперь?…» — Она вытерла глаза широким подолом, вошла в дом.
Павел стоял теперь перед её кроватью на коленях, сложив голову на подушку, и был уже не в мужнином крепком белье, а в ветхом своём комбинезоне, и голос из-под свода монастырского храма гремел в опустевшей его голове: «… и Единому Тебе отдаю плоть свою…»
— Ой, Павлуша! Ровно я тебя не вижу? — засмеялась она. — Чего вырядился? — Присела рядом, притянула к себе его голову, зарылась в его бороде, зашептала, обжигая частым дыханием: — Полно, Павлуша, чего уж теперь? Чай, живые. Не деревянные… Погляди-ко на меня. — Она торопливо разделась донага, юркнула под одеяло, оставив край его приоткрытым, бесстыдно выголив бок своего женского тела.
— Я пойду сейчас, Любаша, — хватило у него голоса. — Я ещё перед войной… в Мологе ещё… Монах я на горе моё…
— Паша, господи… Полно не дело-то говорить. — Она села в кровати, прикрыла рукой грудь. — Глупый… Будто всё и живёшь монахом?
— Меня не звали к себе, как ты… Не знаю я этого… Камни на себе носил, крапиву рвал, когда очень-то было…
— Полно, Паша, — повторила она. — Это жизнь прожить и жизни не знать?… Да зачем тебе, господи? Кто теперь верит так?
Она говорила свои слова и белела телом в темноте дома с печалью подсоченной берёзы, когда ветер вешний готов трепать её листву, а сила жизни уходит из неё напрасно, и корни пьют землю не для зелёной листвы, не для счастья роста, а для того, чтобы снова соком вылиться в землю…
Павел поднялся от постели, и она поняла стыд свой и горе своё и спряталась в кровати, рухнув туда без шума. И затряслась телом от стыда и несчастия. Он постоял посреди комнаты и, прежде чем Любаша успела сказать что-то, вышел в тесноту ночной улицы. Самому ему стало тесно в себе до того, что ногам было некуда двигаться и некуда ему было деться в этой тесноте от голоса: «Единого Тебя люблю, Господи, Единого и Единому Тебе отдаю плоть свою…»
Ночь была душная, свиристела сверчками, гудела пароходным гудком в темноте. Павел брёл, спотыкаясь голыми ногами на выбоинах мостовой и не чувствовал иной боли, кроме тупой ломоты во всём существе своём. Ему представлялось, что Любаша теперь успокоилась и, наверно, уже уснула, а что ему делать в пустом одиночестве, он не знал. Может, надо выйти к Волге и проститься со всеми, может, вернуться в дом, где ему вспомнился давний иноческий обет, и забыть его там в неведомом счастье, ибо равно стираются с земли и праведники, и грешные, а другую жизнь он чтил, но не ведал. До сего дня и земная жизнь не была для него чередой греха, а была единством всего сущего, единой любовью ко всему: и к траве, и к злаку, и ко всякой твари, живущей вокруг. Он и Любашу любил, но равно как и Фёдора, как Вовку с Генкой, как интересную начальницу стройконторы, как владыку епископа, тайно постригшего его в иноки в монастырском колхозе. И, может, вспомнил он обет свой перед Богом именно ради той невыделенной любви, которую от вдовьей доли своей хотела выделить в нём Любаша и не смогла.