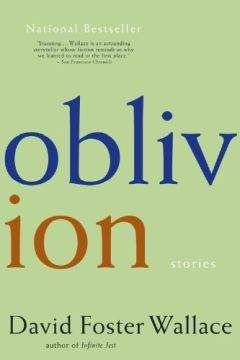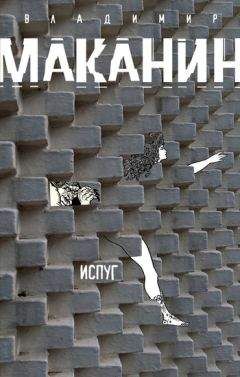Алина Литинская - Монологи
Людмила Никифоровна посмотрела на светлеющие окна, сложила ладони, потянулась, что-то хотела еще сказать, что-то хотела спросить — не спросила, хотела подняться — не поднялась. Потянула безнадежно погасшую сигарету — и отложила ее в пепельницу.
— А вы знаете почему ко мне художники редко входили? Знали, что — бесполезно. Я все костюмы для себя переиначивала. Нет, конечно, только те, что для меня сшиты. Меняла всё по-своему. Ну, не всё, конечно. Детали. Но вполне достаточно, чтобы они сердились, художники. Безвкусица, кричат. А я то себя знаю. На ком другом безвкусица, а на мне — в самый раз. С костюмом Эсмеральды целая история была. Костюм я решила расшить бисером. У свекрови взяла бисерное ожерелье, распустила, а нанизать не могу — нет такой иголочки. Должна была быть специальная, тоненькая, как волос. Я несу бисер в костюмерную, в цех костюмерный, сделайте, говорю. А они заупрямились. Нет, и всё тут. В эскизе, говорят, этого нет. Ну, я к моей одевальщице. Она всё сделала. Ей тоже понравилась моя идея с бисером и колокольчиками. (Пришили колокольчики по подолу. Эсмеральда же цыганка.) Я долго танцевала в этом костюме. Даже, когда спектакль сняли с репертуара. Почему? Ну не почему. Каждый спектакль имеет свой срок, а потом, говорят, устаревает. Костюмы пыльные, декорации старые, состав уже танцует заученно, без интереса. Бывает так, заболтанный спектакль. А потом спектакль возобновляют и он живет как новая постановка. Так вот, у меня этот костюм и без спектакля был как живой. Нас же посылали на шефские. Актеры шли неохотно: бесплатно (деньги не платили, а в норму засчитывали). Да и публика не та. И сцена не та. Всё не то. Шефский концерт, как нагрузка. А я не возражала. (Некоторых это тоже бесило. Ну как не покапризничать!). Нас иногда возили в Парк Культуры и Отдыха — так что, вообще, удовольствие. Открытая площадка, свежий воздух… Публика доброжелательная. Когда я выбегала в своем платьице Эсмеральды — все ряды вставали, чтобы разглядеть из чего и как устроен мой наряд: звенит ведь. Мы с ним пользовались успехом. И уже были у меня и свои поклонники — тамошние. Одного особенно запомнила: он всегда ждал меня после моего номера. В одной руке — роза, явно только что сорвана с клумбы, в другой — мороженое, Эскимо на палочке. Для вас, говорит, и для Эсмеральды. Парень чудный, добрый, оказалось, был студентом, летом в парке подрабатывал рабочим — глаза грустные и умные. Вот так и осталось в памяти: Эсмеральда, колокольчики, студент-поклонник, мороженное не слишком сливочное — время было не слишком сливочное, и отголоски шумов Парка. Мы называли эти выездные концерты «едем на Чаир» — смех вспомнить, однажды в расписании на доске появилось это «едем на Чаир». Расписание-то составлялось в режиссерском управлении, а там был администратор, который ездил с нами на концерты. Он — бывший тенор в театре, фамилию — убейте, не вспомню. Но звали его Альфред. Аль-фред… (Людмила выразительно повертела шеей, приподняв подбородок, поправляя несуществующий бантик-бабочку. Ну, «фрачный герой», ни дать — ни взять!). Мы называли его «коммерческий тенор». Он начинал концерт и обязательно сначала какая-нибудь, как он говорил, порядочная песня. Ну, народная, под баян. А потом, это самое танго «В парке Чаир» — страшно модно было тогда. Аплодисментов — буря. Но что это был за Чаир, где он, что он — никто понятия не имеет. Сладость неизвестная, можно сказать — безымянная. Я не выдержала однажды, говорю, открой секрет, что это за Чаир и где он есть. А он такой весь из себя во фраке, с бабочкой, говорит: — А тебе, Людмила, все надо знать, — он и сам-то не знал что это за Чаир. Это, — говорит, — везде где тепло и солнце светит. И всюду где есть твои чары.
Мы хоть и ездили на концерты вместе, но были довольно далекими знакомыми. Так «здрасте-до свиданья». И вот, этот наш администратор-тенор подарил мне прелестную сиреневую с прожилками пудреницу. Лет, наверное, пятнадцать прошло от наших «чаирных» выступлений, уже и вожди сменились и время другое, а Альфред как-то пришел ко мне на день рождения, не помню уж, сколько исполнилось… может… ну, я еще танцевала вовсю. Короче, гости, комплимент, тосты, за здоровье пьют, ну как водится. А он так красиво, как джентльмен, подошел, ручку поцеловал и коробочку преподносит. — Это вам, — говорит, — на память сувенир из камня чароит. Редкий камень, только на реке Чара добывается, дарю в честь Ваших чар и в память о совместных гастролях в парке.
Сейчас, гляньте, вон, на углу витрина магазина — там и шкатулки, и подсвечники и кольца… А тогда это была невидаль, редкость. Много лет служила мне эта пудреница, все Альфреда напоминала. И реку Чару, на которой никогда не была, и парк, и молодость. И колокольчики со мной большой кусок жизни прошли. Спасибо Вале. Нет — Люде. Нет, Вале, Валя — костюмерша. Люда завлитом была. Людмила Феоктистовна. Тоже было… Ее фамилия… не то Мамлакат, не то Момолат. Мы ее называли Главцитат (а позднее — Ацитат). Ей бы только писанину писать: первое, второе, третье действие, первая постановка, вторая постановка, ну, ей положено… — завлит. Обложится книгами и дует из них. А в музыке — не в зуб. Сидит в своей литчасти и скребет по бумаге. Или стучит на ундервуде, или вундеркинде? Как правильно? Я однажды к ней, Людмила, говорю, Феоктистовна, зайдите в зал, сейчас спектакль начнется. Не помню уж, что было тогда… кажется, «Баядерка». Я танцевала. А сама думаю, странно видеть ее в ложе, не театральная она какая-то, всё бегом, всё в полноги, с бумагами, бумагами… и всегда в белых носках. Даже, когда туфли на каблуках, в носках. И всё про всех знает. Всё, кроме музыки. Главцитат. Кажется, знала только «Гаянэ». И то потому, что там танец с саблями. Знала, конечно, что Арам Ильич за балет Сталинскую получил. А за «Спартака» — Ленинскую, когда Сталина уже не было. За то ее и держали. Я прошу ее: «Зайдите, — говорю, — в зал». Когда «Баядерка» была. А она повернула ко мне голову и нагло говорит: «Я эти ваши фуэте терпеть не могу». Как выстрелила. Я говорю: «А за что в театре держим?». А она: «Не вы держите». Поговорили. Работала она в театре не долго, а очень долго. В конце-концов оперный хор на капустнике спел белорусскую «Перепелочку», про перепелочку, что старенькая стала, а в припеве — «ты ж моя, ты ж моя, Феоктистовна!». Она вскоре ушла из театра, но свое дело сделала: многих хороших извела из театра.
Был такой прекрасный художник Виктор, Виктор… Ну не помню фамилии. Скандалил со мной, но ни разу до худсовета не довел. Несклочный был. Я ему говорю, ну что вы упрямитесь, вы ведь скоро уедете в свой Свердловск — его туда пригласили главным художником, а из нашего почти выжили, — а мне с костюмом оставаться и танцевать в нем спектакль. Он смеялся. Расстались друзьями. Он мне долго открытки к праздникам слал. И начинались они так: «Пользуясь тем, что мы живы…». Я сперва злилась. А дальше: поздравляю, желаю, целую. Мой Толик из себя выходил: как так, вы всегда конфликтовали, а сейчас «поздравляю, целую»? В конце-концов он научился не ревновать. Жена-балерина — это испытание, как говорила его мама, Царство ей Небесное, свекрови моей. Мы с Толиком жили больше десяти лет и жили очень хорошо. Нет, он не имел отношения к балету, только терпел. И переживал за меня. Когда я собиралась на спектакль, он садился в угол на тахту, где нет света, вдали от торшера, и смотрел. А потом говорил, по тому как ты собираешься, я вижу как ты будешь танцевать. Я — твой зритель до того, как поднимается занавес. Нужен тебе зритель? Я говорю: О да! И непременно влюбленный зритель. Влюбленный — настоящий зритель. Остальные — подсадные. Я вообще не верю в «объективных». Раз пришел в театр — значит пристрастен. К чему-нибудь или к кому-нибудь. И слава Богу. А наше дело — собираться, одеваться и очаровывать. Кого? Бог с вами, как это — кого? Какая разница?!
— Я вон разговорилась, а мне завтра утром, нет, уже сегодня, на зубовное свидание. Боюсь ли? Нет. У меня привычка — не бояться. Очень важно, кто раньше лечил. Нам повезло: лет двадцать пять мы лечились — весь театр — у одного зубного врача. Он уже был больше чем врач: всех балетных знал в лицо и по именам, кто что танцует, все выходы — когда, из какой кулисы, под какую музыку, насвистывал, напевал и даже «ножкой делал». Очень смешной был человек, смешно всех показывал и сам себя пародировал. Маленький, кругленький… Гриш Гришич. Сейчас его сын принимает. Тоже Гриш. И тоже Гришич. Если не уехал. Наш Гриш Гришич и придумал это выражение — зубовное свидание. Очень точное. Ну, с балетными ему куда легче, чем с вокалистами. Вокалисты, конечно, совсем отдельная поэма для дантистов, мы-то зубы на ходу не теряем, а с вокалистами масса курьезов. Он очень смешно их показывал. Говорил, как однажды к нему пришел народный-перенародный, народнее не бывает, встал в позу и говорит: сделайте мне назавтра то-то и то-то, у меня спектакль завтра правительственный. А Гриша говорит: «Какой спектакль, у вас насморк в водопроводной стадии, идите подлечитесь, подлечите кран — придете». А тот встал — Гриша очень смешно показывал…