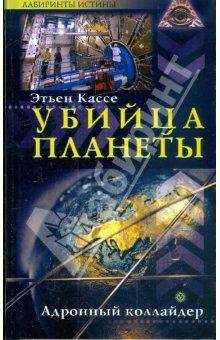Дьердь Далош - Обрезание
Раз в неделю медицинские походы матери заканчивались в кабинете с табличкой «Психотерапия» — там принимал свою клиентуру (вернее, то, что осталось от нее с добрых довоенных времен) профессор Надаи. Профессор был стар, туг на ухо, и в поликлинике его держали скорее из жалости, чем из уважения к нему, когда-то признанному авторитету в той области медицины, которая в последнее время стала подозрительной. Жалобы матери он слушал с выработанной за полстолетия привычкой всепонимания, не перебивая ее вопросами или репликами, разве что кивая иногда. Однако матери, видимо, вполне хватало этих кивков, и она преданно посещала профессора Надаи в его крохотном кабинетике, зажатом в закутке между ЭКГ и ухо-горло-носом.
Правда, кроме кивков, она обрела здесь еще кое-что: несколько лет назад старик психиатр выдал ей заверенную печатью справку, в которой значилось, что вдова Андорне Зингер страдает тяжелой формой неврастении, состоит у него, профессора Надаи, на учете и «нуждается в полном покое». Роби Зингер ни разу не видел, чтобы мать эту справку где-нибудь предъявляла, но знал, что мать хранит ее вместе с самыми дорогими своими реликвиями — его, Роби, фотографиями, и иногда сама достает и с очевидным удовлетворением разбирает написанные неразборчивым почерком строки.
Неврастения — это было достойное обрамление всех тех болезней, которые без остатка заполняли материны будни. Слово это не требовало объяснения, оно обладало убедительной самодостаточностью, оно было проще пареной репы и все же имело какой-то мистический смысл. Иногда мать дополняла его эпитетом «тяжелая», а то и — гораздо реже — латинским соответствием «gravis»; а уж совсем редко, в исключительных случаях, отваживалась повторять услышанный от профессора Надаи диагноз целиком: «Neurastenia anancastica gravis». Второе, греческое, слово внушало ей едва ли не гордость: ведь оно напоминало о роковом, непоправимом характере ее болезни, о том, что кого-кого, а уж ее-то за все это винить ну никак нельзя.
В самом деле, момент, который профессор Надаи попытался смягчить, выдав эту справку, был для матери Роби Зингера едва ли не роковым. Она служила в торговой конторе по продаже пишущих машинок; в один прекрасный день ее уволили. В качестве основания в приказе указывалась какая-то очередная рационализация. И руководство конторы поступило еще весьма благородно, не сообщив о настоящей, довольно скандальной, причине: дело в том, что за несколько месяцев, что мать проработала там, она почти напрочь забыла свою профессию — машинопись. В извещении, которое было вручено матери, об этом тактично умалчивалось, но сути дела это обстоятельство не меняло: мать решила, что он нее просто хотят избавиться. Выйдя из отдела кадров с трудовой книжкой в руках на лестничную клетку, она вдруг почувствовала, что у нее кружится голова и что еще немного — и она покатится вниз по ступенькам. Какое-то время она топталась на площадке, не зная, что делать, потом вернулась в отдел кадров и, вся в слезах, взмолилась: уж если ее так безжалостно выкинули на улицу, пускай хотя бы проводят до выхода. А через несколько дней ее положили в психиатрическую клинику им. Аттилы Йожефа на шестинедельный курс гипнотерапии.
Бабушка первое время надеялась, что, как только дочь найдет себе новую работу, способность ходить по лестницам к ней тут же вернется: как известно, клин клином вышибают. И искренне радовалась, когда та, выписавшись из клиники, довольно быстро устроилась на новое место. Беда только в том, что в «Ватексе», куда мать приняли на работу в статусе младшего обслуживающего персонала, на должность курьера с зарплатой восемьсот форинтов в месяц, и думать, конечно, не думали, что новая курьерша, добравшись до учреждения-партнера, своими силами способна попасть разве что только на первый этаж, а там, где нет лифта, так и будет стоять беспомощно, прижав к груди огромный ридикюль, а в другой руке держа портфель с важными документами.
Хозяева «Ватекса» быстро поняли, что использование такой рабочей силы чревато немалым риском для нормального процесса делопроизводства. В то же время они не могли не принять во внимание социальную неустроенность своей служащей и бесконечную услужливость, которая всегда светилась в ее глазах; поэтому при очередной реорганизации ей доверили пост вахтера, с внештатным статусом и половинным окладом.
Хотя матери и пришлось поплатиться за свою агорафобию половиной зарплаты, тем не менее именно там, в пронизанном сквозняками вестибюле, который теперь получил ранг проходной, где бегали туда-сюда инженеры и секретарши, она обрела наконец покой. Входя ли, выходя ли, служащие доброжелательно приветствовали ее, иной раз спрашивали о самочувствии, она же, принимая вежливое «как поживаете?» всерьез, давала им полный отчет о своем самочувствии: иногда с тихой, терпеливой улыбкой — дескать, ах, ну что тут поделаешь? — иногда с набегающими на глаза слезами. Агорафобия, однако, и не думала проходить, хотя против нее были пущены в ход уже не только средства современной психотерапии, но и такое серьезное оружие, как молитва. В Обществе братьев-евреев, верующих в Христа, за нее молился сам Исидор Рейтер. «Помоги сестре нашей Эржике!» — взывал он к Спасителю, хорошо зная, с какой легкостью тот решал подобные или даже куда более сложные задачи. «Встань и ходи!» — так мог бы прозвучать избавительный приказ; но, увы, где было чудесное касание, исцелявшее даже прокаженных, и вообще, какая польза была от смерти на кресте, если страдающий человек, вот, и ныне стоит, не в силах ступить даже на нижнюю ступеньку ведущей на второй этаж лестницы, стоит перед ежедневной Голгофой своего бессилия? Такой вопрос задавал себе Роби Зингер каждый раз, проходя мимо креста с буквами INRI, висящего в молитвенном зале евреев, верующих во Христа, и укоризненно смотрел на Иисуса, словно гипнотизируя его и ожидая, чтобы тот заговорил. Однако царь иудеев, покорно понурив голову, казалось, внимал лишь собственному смертельному забытью и, по-видимому, понятия не имел об агорафобии какой-то еврейки-курьерши, разжалованной в вахтерши; как, впрочем, избегал принимать к сведению и все прочие фобии. «Истинно говорю вам, — должно было бы, наверное, прозвучать из уст Исидора Рейтера, — процедура искупления не проста и не кратка, и нет такого земного несчастья, для которого можно было бы найти целительное средство лучше терпения».
Вскоре после того, как Роби Зингер прибыл домой, раздался звонок в дверь: пришла Гизика, неграмотная уборщица, которая от случая к случаю наводила порядок и у них в квартире. Гизика осталась у них от старых, довоенных времен, когда, по рассказам бабушки, семья еще могла позволить себе содержать приходящую прислугу. Доброжелательную, прилежную девушку порекомендовала им в те давние времена биржа труда, и с тех самых пор Гизика сохраняла им верность. Когда им пришлось перебираться в гетто, она со слезами простилась с ними, а после освобождения, как только они вернулись в прежнюю квартиру, Гизика тут же явилась, чтобы посредством щеток и тряпок помочь удалить следы вселившейся было туда семьи какого-то мелкого нилашиста. С тех пор она не бросает их, словно все еще чувствуя себя прислугой. Бабушку Гизика величает барыней, мать — барышней, а Роби — барчуком; и ко всем обращается на «вы». Роби Зингеру нравится ее почтительный тон; все-таки мы тоже кое-кто, думает он. Когда он говорит об этом бабушке, та, конечно, пускается в длинные объяснения, мол, никакие мы не баре, просто так сложилось в старые времена, и Гизика никак не может отвыкнуть от этого.
Однако Гизика знает, что на бабушкино сочувствие и помощь она всегда может рассчитывать.
Нынче она, например, пришла потому, что ей надо написать заявление в райсовет, чтобы вместо подсобной каморки, где она сейчас обитает, ей выделили хотя бы однокомнатную квартирку с кухней. Подобные бумаги всегда писала для нее бабушка, у которой очень даже развито правовое чутье; да и вообще Гизика смотрела на бабушку как на оракула. Единственным серьезным аргументом, с помощью которого они с бабушкой надеялись (правда, до сих пор без каких-то особых успехов) растопить равнодушие власти, было то обстоятельство, что отец Гизики в свое время, в дни Венгерской коммуны, сражался в рядах Красной армии против румын и за это был потом интернирован. С того момента, как они писали такое прошение в последний раз, ситуация изменилась в том смысле, что отец Гизики — у которого, кстати, интернирование на всю жизнь отбило охоту заниматься политикой — пару месяцев назад тихо и мирно приказал долго жить, из той самой каморки переселившись на тот свет. «Ой, барыня, а знали бы вы, как уж я судно ему таскала!» — с укоризной в голосе объясняла бабушке Гизика.
Бабушка полагала, что факт смерти отца нисколько не умаляет исконных прав Гизики. Заслуги все равно остаются заслугами, жилье же требуется не покойникам, а живым. С тем она достала отцовскую пишущую машинку и за каких-нибудь полчаса изобразила такое прошение, что любой адвокат позавидовал бы. «По вине проклятого старого строя я так и осталась неграмотной», — сообщала бабушка от имени Гизики, потом описывала во всех подробностях, как геройски вел себя отец уборщицы во времена славной Советской республики и с какой трогательной преданностью, до последнего вздоха, хранил у себя под подушкой удостоверение красного воина.