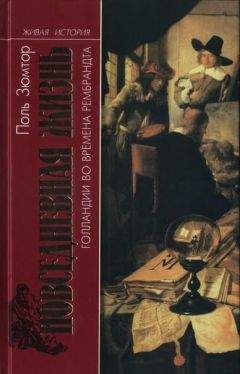Александр Кабаков - Весна - лето
Как, уже Лондон? Ну ты даешь! Теперь уже и я ничего не понимаю: а в Лондоне-то кто? Тут нечего понимать, ты просто слушай и старайся представить себе картинку, а остальное придумай сама — кто кого находит, и как, и зачем… А потом все окажется не так! Вот и хорошо, вот и интересно, разве нет? Сочинитель. Да, сочинитель, профессиональный врун. Хороша профессия! А чем хуже другой? Вот ты лежишь себе, а я тебе картинки рисую, сказки рассказываю, а другой уже включил бы телек, осмотрел бы сессию — да спать… Другой бы не мучил, и я бы не мучилась. А разве тебе не хочется мучиться? Хочется, но не настолько, я умеренная мазохистка. Ну, расскажи, расскажи, ну, из-за чего ты сейчас мучаешься? Ты правда этого хочешь? Ну, слушай: ты уйдешь, и у тебя там будет другая жизнь. И ты там тоже будешь счастлив и добропорядочен, и будешь сидеть, чистый и благостный, и будешь записывать свои дурацкие картинки. Да, буду, а ты? А ты будешь так же сиять глазами ему, и он будет ждать тебя в машине после эфира, и перегнется из-за руля, и ты его поцелуешь в щеку… Ведь поцелуешь же? Ну и молчи, и хватит, иди сюда, молчи.
Все так и было. День несся, рассекая все существо пополам, рвалось сердце, она стояла босиком на грязном полу, широкобедрая, сразу уменьшившаяся без туфель, с чуть выступающим животом над светлорыжим удлиненным островком тонких и почти не вьющихся волос, надо было торопиться, стаскивая с себя одежду, а она бормотала как во сне. Вот здесь, здесь… немножко… ну немножко укуси, ладно? И теперь сбоку, пожалуйста, я хочу сама, ты мне мешаешь… не двигайся… Ее рука ползла вниз, палец прятался, она стонала все громче, закинув голову назад и чуть вбок, палец скользил все сосредоточенней и неудержимей, и надо было лежать, не двигаясь, все новые и новые толчки горячей влаги обнимали, и, наконец, мир рушился.
День преодолевал остаток дистанции, шершавый палас впивался в потную спину, и картинки плыли в сумерках, пора было ужинать, но в Москве в жару есть не хочется. Разве что сначала рюмку-другую проклятого азербайджанского…
Ты отсутствуешь, мы уже давно не разговариваем по вечерам, ты ешь с отсутствующим видом.
Надо промолчать. Все справедливо, вы все правы, но почему-то никто, никто из вас не хочет вместе со мной, сейчас, без всякой логики и пересказа предшествующе-го — туда, в Сюжет, который заключается в том, что самые разные и трудно представимые картинки могут вдруг оказаться связанными неразрывной, прочнейшей цепью внутри еще одной картинки, в которой — все концы и начала, вся жизнь. Как в одной давно виденной карикатуре: на руке, на пальцах, кукла, а на кукольной руке меньшая кукла, а на ее руке — еще меньшая… Я придумываю картинку, а в той картинке люди придумывают картинки, а в тех картинках…
Только в обратном порядке. Предположим, очередная маленькая картинка как раз и может быть там, под лесами, в сизоватой пыли ремонтируемого этой весной знаменитого лондонского круга.
Лондон. Апрель.
В это воскресенье они, как всегда, встали рано, а выбрались из дому только около полудня. Поехали в Сохо, бродили, сначала с удовольствием, а потом не без отвращения пробиваясь сквозь толпу. Посидели, взяв по кружке светлого, среди полоумных на Карнаби, поели в «Симпсоне» на Стренде, выбравшись туда заплеванными переулками и всю дорогу обсуждая, как возникла обнаруженная в одном из закоулков Сохо странная, но абсолютно грамотная русская надпись четвертьметровыми черными буквами на глухой стене: «Это нечто большее, чем судьба, — это в крови». Кто этот придурок среди немногих лондонских русских — это ведь не Нью-Йорк и не Париж, — додумавшийся до такой многозначительной бессмыслицы?
Со Стренда они повернули направо, миновали Трафальгарскую площадь. У южноафриканского посольства прыгали, колотя в барабаны и распевая всякую дурь, протестующие против апартеида, полицейский со свежевыстриженным затылком стоял рядом, заложив руки за спину. Шлем он снял и держал за спиной, короткие светлые волосы над загривком были мокрые от пота — жара стояла ненормальная. Внизу, у колонны, фотографировались туристы, японцы образовали идеальный групповой снимок, итальянские дети лезли на постаменты памятников и гоняли голубей. Вниз по Уайтхоллу неслись машины, из-под носа дабл-дека выворачивалась очаровательная каракатица «Morgan», спицы мелькали в колесах.
Тут он почувствовал, что безумно дорогой и омерзительно невкусный симпсоновский обед — вечно по воскресеньям они выбирали что-нибудь несообразно дорогое и невкусное — уже дал себя знать. Они быстро, срезая углы и переходя на красный, вышли на Пиккадилли-серкус, бог плотской любви был загорожен щитами на ремонт, что-то тут натворили очередные сторонники справедливости, здания вокруг площади через одно были в лесах, на тротуаре лежал тонкий слой белой строительной пыли, и даже рекламы на знаменитом углу были будто слегка припорошены. Впрочем, ничто не мешало толпе жевать котлеты под навесом «Burger King».
Он спустился в сортир у входа в метро, прошел в кабинку, заперся, с отвращением уставился в однообразные — правда, некоторые были исполнены весьма умело — картинки и надписи, бесконечно предлагающие одно и то же. Здесь были fuck и suck в переносном смысле, в основном по адресу враждебных болельщиков, но были и в буквальном, с телефонами и адресами встреч, — заведение имело ярко выраженный гомосексуальный характер. Кто-то даже поднялся на политический уровень, создав призыв: «Gays, be proud!» Лозунг этот был написан как бы на стяге, а стяг укреплен на двух напряженных предметах, которыми, видимо, и предлагалось гордиться пидорам всех стран… Он застегнулся, туго затянул ремень.
И почувствовал, что сейчас должно произойти нечто, почувствовал так же точно, как если бы кто-то вдруг крикнул: «Внимание, капитан Олейник! Внимание!»
Дважды было с ним так. Первый раз в Анголе, когда этот голос крикнул ему прямо в ухо: «Встать! Тревога!» Он открыл глаза, но ничего не увидел — беспросветная тьма наполняла палатку, и снаружи не проникало ни лучика, облака шли густые уже неделю, вот-вот могли начаться дожди. И во тьме он услышал даже не шаги — ровный глухой гул, топот многих десятков ног по выбитой земле, и мгновенно понял, что все уже произошло и сейчас раскрашенные совершенно им не нужным маскировочным камуфляжем ребята из УНИТА заканчивают окружать каждую палатку в отдельности, следуя точным командным жестам южноафриканских инструкторов в косо примятых шляпах. «Тревога, — заорал он не вставая и, в нарушение всех инструкций, по-русски: — Тревога! К бою!» И тут же скатился с койки, пополз уже между ногами мечущихся по палатке кубинцев туда, где был оставлен взводный огнемет, схватил его, потащил ползком, рванул кверху полог палатки и саданул первую порцию косо вверх, и попал, лагерь мгновенно осветился, факелом вспыхнул малый в одних шортах, его «калашников» взлетел вверх и исчез во тьме, вопли заполнили мир реальностью, рухнул кошмар, и начался обычный, бестолковый, больше руками и зубами, чем оружием, ночной бой. Он полоснул еще раз, стараясь захватить как можно больший сектор, бросил трубу огнемета, рванул из-под корчащегося и сворачивающегося, словно сгоревшая ветка, еще одного черного его старенький «томпсон» с круглым магазином и пошел вперед, расчищая перед собой пространство веером. Он шел прямо, автомат дергался и рвался из рук, ответных выстрелов он не слышал… Вдруг он оказался на дороге. Здесь стоял Т-62, из люка высунулась голова и спросила с неистребимым кременчугским или кировоградским спокойствием, обращаясь к самой себе: «А шо ото оно стрэляе?»
…Повторилось это в Страсбурге в прошлом году. Они гуляли где-то в районе Гран рю. Был изумительно теплый августовский вечер. С какогото моста они рассматривали огни в сияющих окнах дворца — потом оказалось, что это дом престарелых — на острове, людей в кафе на набережных. Из медленно ехавшего внизу, под мостом, сиреневого джипа бухала музыка — такая была в этом году у молодых по всей Европе мода: включать на полную стерео в открытой машине и гулять, наделяя всех набравшей новую популярность в связи с мировым туром Тиной Тернер. Музыка на мгновение заглушила все, неистовая Тина завопила «Look me in the heart!», и тут он услышал: «Внимание, Володька, сзади справа…» Он оглянулся, одновременно положив руку Гале на плечо и отталкивая, отодвигая ее от себя. Справа по мосту подходили двое — обычные здешние пацаны, в сапогах, в кожаных куртках «перфекто», в джинсах, обтягивающих, как рейтузы. Он продолжал отодвигать от себя, отталкивать как можно дальше Галю, а сам уже шагнул им навстречу и увидел в руках у одного хорошо знакомые палки, связанные цепочкой, палки качнулись и закрутились, сливаясь в мельницу. Второй сунул руку назад под куртку и мгновенно вытащил ее с ножом, рукоятка-кастет, толстый клинок…
Он понял, что его нашли. Он был уверен, что в конце концов его найдет ГРУ или болгарские друзья по поручению Старшего Брата. Но в полиции оказалось, что ребята обознались, они искали какого-то торговца, задолжавшего поставщикам уже чуть ли не за полкило порошка. Им было велено выбить долг, больше ничего они не знали, а этот русский очень похож — тоже такой приглаженный, прилизанный, галстучкиплаточки, настоящая буржуазная свинья. Кто ж его знал, что у него коричневый пояс… Он прыгнул, нунчаки очень удачно улетели сразу за перила, их оглушенный владелец поднял было руку ко лбу, на котором остался точный отпечаток каблука, — и рухнул, как бычок на арене. Второй пригнулся, низко опустил нож, парень, видно, соображал в драке, пришлось хорошо крутнуться… На мосту уже визжали, от центра пробивалась полицейская сирена, он едва не задел какую-то тетку в широких шортах и сиреневой майке, оперся на правую и после еще одного оборота нашел-таки пяткой стриженый затылок.