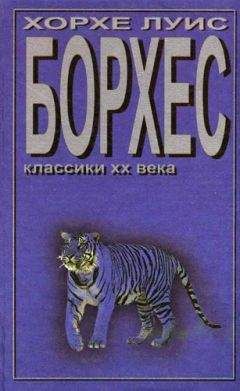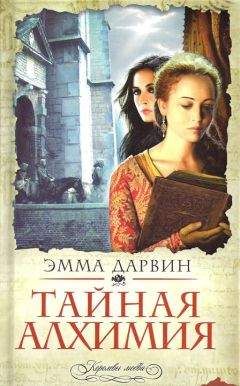Дмитрий Бавильский - Ангелы на первом месте
Мария Игоревна знала его маму, известного в городе педиатора, крикливую толстую тётку, уехавшую потом в Израиль, так и не дождавшись, что её великовозрастное дитя женится и заведёт для неё игрушечных внучат. Но сын женился на театре, наотрез отказавшись ехать вместе с драгоценной мамочкой на историческую родину, в гарантированную, как всем театральным казалось, сытость. Проявив неожиданную твёрдость характера.
20.
Мария Игоревна смотрела на Галуста и гадала: продолжает ли он писаться, как раньше, или исправился. Завлит, кажется, догадывался, что всё театральное население знает его постылую тайну, отчего всё время краснел и сутулился, предпочитая разговоры на отвлечённые, абстрактные темы.
– Понимаете, Мария Игоревна, когда мы ставим классику, то легко можем сойти за охранителей культурного наследия. Мы же не современный театр, по способу существования наших актёров, по оснащённости сцены… поэтому и должны превращать минусы в плюсы…
Поэтому лично я, – горячился Галуст, точно его спрашивали, – всегда против постановки современных текстов…
Она чувствовала к этому переростку едва ли не материнские чувства и легко бы сейчас его пожалела, если бы не транс, в который она со сладострастием погружалась всё глубже и глубже.
– Скажите, голубчик, – оторвалась от тягостных раздумий Мария
Игоревна (в немытом окне щебетали синички: весна идёт, весне дорогу!), – я ещё не видела распределения. Правильно ли я поняла, что Раневскую будет играть наша драгоценейшая Танечка Лукина?
Галуст оценил всю деликатность момента. Татьяну Анатольевну Лукину, главную героиню, в театре не любили (справедливости ради добавим: никто в труппе не вызывал у коллег особенно трепетных чувств, в каждом виделся потенциальный конкурент), особенно после того, как
Лукина удачно вышла замуж за серьёзного бизнесмена, заезжавшего за ней после спектаклей на белом Мерседесе. Поэтому поспешил успокоить обиженную артистку.
– Нет, что вы, на Раневскую в очередь поставили Хардину и Потапову…
– Вот как, – Мария Игоревна не ожидала такого поворота: Хардина и
Потапова происходили из оппозиционного Лукиной лагеря. В том числе и по возрасту.
– Конечно, первоначально Лев Семёнович предложил роль Раневской, о которой мечтает каждая актриса, госпоже Лукиной, – тут Галуст закатил глаза и сделал паузу, – но вы представляете, эта барыня не захотела играть на малой сцене: ей там, видите ли, места, простору маловато. Разгуляться негде…
– Понятно, – сглотнула новую обиду Мария Игоревна.
21.
В дверь постучали, зашла энергичная завпост и без всякого предупреждения, без здравствуйте, с ходу заголосила.
– Ну, что, подписал главный?
– Нет ещё, – отчего-то сильно смутился Галуст.
– Вы представляете, – обратилась заведующая постановочной частью к
Марии Игоревне в поисках сочувствия. – Никак не хочет списывать спектакли, тянет и тянет волынку… А мне же их, декорации эти, ну, просто хранить негде. Все хранилища перегружены, жду, когда пожарники вот-вот перекроют мне кислород…
– А что списывать-то?
– Ну, где у нас самый большой и неповоротливый станок? – Завпост, руки в боки, встала, гордая и непокоренная. – В "Страданиях", разумеется. Художник наворотил, ни хранить, ни на гастроли вывезти невозможно.
– Как "Страдания"? – переспросила Мария Игоревна, игравшая в этом спектакле свою единственную главную роль. Чего завпост, отвечавшая за подготовку и эксплуатацию декораций, знать не могла: не её компетенция.
– А вот так. Мне с этими "Страданиями" – одни страдания, – попыталась пошутить она, не вникая в тонкости творческих отношений. – Короче, как подпишет, найти меня по мобильнику.
И, не дождавшись ответа, хлопнула дверью.
– Вот так. – Галуст смущённо развёл руками.
Мария Игоревна сидела оглушённая, и перед ней качалась на невидимых ниточках пустота. Вот тебе и новая жизнь: в один день она лишилась главного спектакля, пролетела мимо роли и узнала о назначении в параллель конкурирующей партии. Ничего себе ириска, хоть в театр не приходи.
– Интересно, какой сегодня день недели? – ни с того, ни с сего спросила она Галуста.
Тот пожал плечами: до этого ли им всем теперь?!
– Ну-ка, включи трансляцию…
В каждом театральном кабинете висел радиоприёмник с внутренней связью. Если добавить громкость, можно слышать происходящее на сцене. Очень удобно: к выходу своему не опоздаешь, а помреж, если что, легко отыщет тебя в любом закоулке.
Галуст включил радио, по кабинету зашуршал надсадный шепот Хардиной, главный признак авангардно придуманной "Медеи".
– Ага, значит, пятница…
Мария Игоревна сломала в пепельнице недокуренную сигарету, улыбнулась завлиту надменно, почувствовала приступ чудовищной духоты, дурноты. На улицу, на волю, на ветер!
Немедленно!
22.
Театр зависал над центральной частью города, как сторожевой замок.
По широкой, занесённой снегом аллее (сугробы в человеческий рост)
Мария Игоревна прошла к центральной площади, где каждый год выстраивали новогодний ледяной городок. Никчёмное удовольствие…
Дурацкий город, дурацкий театр, дурацкая площадь.
Мимо бегали разгорячённые дети, статно вышагивали вонючие лошади, мотались и скрипели, обветривая лица, карусели. Дешёвые радости большого города. Леденцы на палочке.
Между тем в воздухе разлито предчувствие весны, не дающее скукожиться или замёрзнуть. Стало легче. Тошнота отступила.
За свою жизнь Мария Игоревна поменяла четыре фамилии. Первую ей дала при рождении мама, второй наградил отчим. И чтобы отделаться от неё, она сразу же после свадьбы взяла фамилию мужа, когда же он умер, придумала сценический псевдоним, с ним теперь и жила, путалась в многочисленных фамилиях безбожно, потому что ни одну из них так и не решила считать своей.
Люди вокруг суетились, бегали по делам. Так странно чего-то хотеть, покупать новую мебель: зачем? Ведь скоро всё обязательно кончится…
Конец света наступает буднично и незаметно, как антракт в премьерном спектакле.
В конце концов, ну, не корову же у неё отняли, подумаешь: театр…
Надуманные, ненатуральные сущности. Если со стороны посмотреть, то ничего понять не возможно: с жиру, что ли, люди там бесятся?
Заложники собственных страстей, продаваемых под маркой талантов.
Объяснить действительно нельзя, это же как проклятье. Рассудочная пропасть.
Она шла и думала, что в ней, в её очертаниях и характере, ворочается совершенно другой человек – покойная мама. И чем старше становится
Мария Игоревна, тем активнее идут преобразования, исподволь заставляющие её поступать так, а не иначе.
Впрочем, это отдельная тема.
23.
Мария Игоревна не стала ломиться в переполненный трамвай (рабочий полдень), решила пройтись пешком, тем более что " в город " она выбиралась крайне редко.
А " в город ", ну да, и значило – в театр, в центр, где меньше безликих людей, нет типовой застройки, и глаза отдыхают на ухоженных уголках.
После возвращения из Ленинграда театр дал Марии Игоревне небольшую квартирку в одном из спальных районов, в самом начале северо-запада, на остановке (новые районы у нас даже не улицами, но остановками измеряются) "Красного Урала". Там, где Комсомольский проспект окончательно выравнивается, превращаясь в уходящую за горизонт магистраль, с двух сторон застроенную одинаковыми многоэтажками.
Мария Игоревна не роптала, напротив, считала: ей повезло категорическим образом, могло ведь быть и хуже: многолетнее общежитие для семейных на заводской окраине, например. Это для неё
Лёвушка постарался, поднял актрисе боевой дух, сломленный столичной неудачей.
Более того, позвонил своему столичному приятелю, могущественному номенклатурному режиссёру, который испортил бабе жизнь , и кричал ему в трубку: "Ты понимаешь, Игорь, какое ты говно!"
Об этом потом много шушукались в круглых коридорах, слухи ходили самые разные. И она никогда не забывала о красивом жесте Лёвушки – не только принял предательницу обратно в труппу, но и выхлопотал ей квартиру (год тогда для театра случился юбилейный, и академической драме выделили пару ордеров), хороший всё-таки мужик. Или, как
теперь принято говорить, неоднозначный.
24.
Было, впрочем, ещё одно обстоятельство, которое Мария Игоревна старалась не вспоминать, потому что и так всегда о нём помнила и постоянно переживала.
История переезда в Ленинград совпала со смертью мужа. То есть они должны были вдвоём туда ехать и даже от всемогущего столичного режиссёра получили добро на совместный переезд и трудоустройство. Но муж скончался в одночасье, ушёл, как праведник, тихо, во сне, никого особенно уходом не озадачив. Без особых причин и предвестий, так же незаметно, как и жил. Он был актёр милостью божьей, высокий, красивый мужик, нежный и ранимый. Вместе с ним она полжизни моталась по театрам страны стойким оловянным солдатиком, пока не осела здесь, в тихом центре империи.