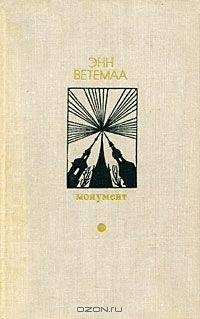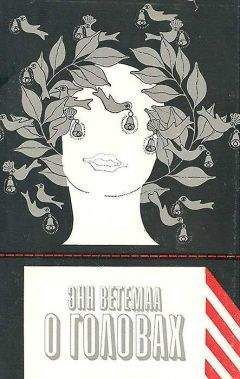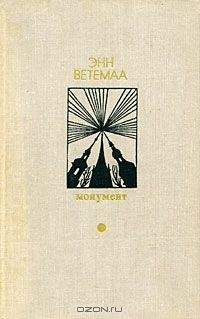Энн Ветемаа - Сребропряхи
Ну да, хорошо, хорошо. Но пойдем, однако же, дальше. Посмотрим, что тут еще интересного.
Рейн обошел полуразвалившуюся корчму, поднялся по скрипучей лестнице черного хода и оказался в низеньких сенях. В нос ударили затхлые запахи гниющего дерева, плесени, сырости. В одном углу прямо между половицами вырос куст крапивы. Его лишенные хлорофилла бледно-желтые листья были почти прозрачны. Рейн наклонился, чтобы рассмотреть их, такая сюрреалистическая крапива должна понравиться художнице Хелле, и вдруг обстрекался. Вот черт, подумал он, почесывая появившуюся сыпь, и растения-то нет, только какой-то призрак лунного цвета, а сколько злобы. Это астральное эхо крапивы, бледная тень роскошного детского пугала, могло бы опять далеко увести мысли Рейна, если бы он в одном из окон не увидел самого Мадиса Картуля.
Мадис Картуль, да, вот он стоит там! Человек, о котором Рейн столько слышал, но встречался с ним всего раза два; стоит себе под сенью только что осмотренной заветной липы, руки в боки, и, как видно, о чем-то размышляет.
Рейну предстоит работать режиссером под его руководством. Съемки, правда, начались, однако Мадис навязанного ему помощника (тот и в самом деле оказался довольно-таки беспомощным) уже успел послать к чертям.
Мадис стоял немного правее середины окна и смотрел вверх. Так что перед глазами Рейна возник неплохой кадр с уравновешенной композицией, хотя, пожалуй, слишком назидательный.
«Вот он стоит, заслуженный деятель культуры республики Мадис Картуль, чье шестидесятилетие общественность и многочисленные любители киноискусства недавно торжественно отметили. (Рейн любил иногда развлечься подобного рода мысленными сентенциями.) Досточтимого режиссера наградили Почетной грамотой Министерства культуры, и эту радостную новость напечатали петитом на последней полосе газеты «Сирп я вазар»[2]. А в следующем номере юбиляр поблагодарил отметивших его скромные достижения за оказанное внимание, выразившееся в добрых пожеланиях и обильных цветоподношениях».
Нет, нельзя впадать в цинизм, я должен относиться к нему с симпатией, чувствовать симпатию, раздумывал Рейн. Он должен быть для меня авторитетом, иначе наша совместная работа пойдет прахом. Тут вступит в силу известный и единственно верный закон кино, следовать которому порой безмерно трудно: спорь и ругайся, пока не началась работа, но, как только приступишь к делу, ты должен убедить самого себя и других, что режиссер знает все, а сценарист просто бесподобен. Если сам не поверишь, то и другим не внушишь, и работа не пойдет.
Кроме того, когда в один прекрасный день фильм будет закончен, в титрах дадут и фамилию Рейна Пийдерпуу; в какой-то степени от этого фильма зависит его ближайшее будущее, то, когда он получит совсем свой фильм.
Кстати, не так уж и трудно увидеть этого субъекта в положительном освещении, потому что в его корпуленции есть нечто от весьма почтенного человека — мистера Пиквика. Одет он невообразимо потешно: шестидесятилетний Мадис влез в какие-то чудовищные тренировочные штаны, по крайней мере, номера на четыре меньше, чем нужно. Да еще под натянутую до предела резинку на животе умудрился засунуть большие пальцы (может, у него с собой есть запасная резинка?). На Мадисе была вязаная кофта, неопределенным цветом и пуговками напомнившая Рейну кофту покойной бабушки. И все же этот Картуль внушает определенное уважение, ведь известно, что более упорного, смелого и находчивого киношника на эстонской земле, пожалуй, не найдешь.
Мадис Картуль сплюнул, пробурчал что-то себе под нос и походкой тореадора, зажав в руке топорик, направился к липе…
Ну, тут уж второй режиссер почувствовал, что не может не вмешаться. Вон оно что! Значит, дерево, которое, по мнению Рейна, было единственным хоть сколько-нибудь художественным моментом, должно рухнуть!
Они здороваются, обмениваются рукопожатиями (у Мадиса маленькая крепкая рука), и Рейн уже слышит свои возражения. Ему, Рейну, конечно, неизвестны все тонкости и изыски режиссерской концепции, но стоит ли уничтожать это дерево, не станет ли общий вид уж очень пустым и тусклым… В какой-то степени он, разумеется, и должен быть тусклым, это ясно, деревенская корчма должна контрастировать с декоративным прудом, беседками и цветниками баронской усадьбы. Да, но не слишком ли усилится этот контраст? Разве это не…
— Дешевка, — закончил Мадис Картуль.
Рейну показалось, что взгляд Мадиса исполнен обескураживающе уважительного интереса, почтительного любопытства школьника, притворяющегося примерным. Разыгрывает? Потешается? Не слишком ли круто я взял? Рейн решил действовать прямо:
— Черт возьми, неужели этим мужикам нельзя оставить одну заветную липу? Как-никак она все эти годы росла здесь. Она сделает кадр уютным, она и корчме придавала уютность, надо думать, такие трактиры не лишены были своеобразного уюта, раз даже бароны иногда их посещали.
— Уютные, конечно. Да-да. Ну-ну, — согласился Мадис Картуль.
— Немножко красоты можно предкам оставить, потому что она же была. Между прочим, все эти ушаты, решета, прялки, скалки и прочая утварь, которую свозят в музей под открытым небом, в своем роде прекрасны. И в фильме что-то должно радовать глаз.
— А может, дать и народную песню? Кое-кто из наших умников не прочь заставить нас горланить старинные протяжные песни. Ну-ну.
Рейн не мог понять, соглашаются с ним или, наоборот, исподтишка издеваются.
— Кстати, что ты думаешь о самом Румму Юри?
— А что о нем думать? У актера должно быть какое-то духовное родство с Робин Гудом.
— В том-то и горе, — вздохнул Мадис, и Рейну показалось, что от всей души. — Я ознакомился с судебными протоколами, они сохранились в архиве. Заурядный конокрад, черт бы его побрал! К тому же имеются данные, что однажды вечером он стибрил шерстяной платок у какой-то бобылки. Ну что тут скажешь?
Карий глаз Мадиса был грустный, а зеленый — сердитый, такие уж уникальные глаза были у этого человека. Но вдруг он с ходу забыл о проблемах героя и национальной культуры.
— Ушаты-решета, — пробормотал он довольно весело. — Прялки-скалки. Ну-ну.
Обошел вокруг дерева.
— Да-да. Пускай себе растет.
Мои слова повлияли или он сам решил? Действительно ли его интересовало мое мнение, или просто решил меня прощупать? Рейн был совершенно не в состоянии разобраться.
— Лучше бы мне остаться при своей кукурузе и картошке. (Рейн знал, что Мадис до этой картины, в основном, делал сельскохозяйственные фильмы.) Всяк сверчок знай свой шесток. Картуль — давай картофь! Что, не так, что ли? У тебя вот в кармане диплом ВГИКа, этот фильм тебе бы делать. Так или нет? — Дожидаясь ответа, а может, вовсе не дожидаясь, кто его разберет, он засунул кулаки глубоко под резинку штанов. Резинка растягивалась, растягивалась; сопя, Мадис Картуль разглядывал молодого человека в куртке из верблюжьей шерсти, от которого приятно пахло лавандой. Разглядывал горестно и проницательно, страдальчески и хитро. — Знаешь, мой милый юноша, а ты ведь крепко влип. Ну, потому, что согласился работать со мной. — Естественно, Рейн Пийдерпуу не мог ничего ответить, но ответа и не ждали. — Влип, потому что я свалял дурака! Вот именно! Видишь ли, режиссерский сценарий, который у тебя спокойненько лежит во внутреннем кармане и который я сам написал по сценарию этого старого словоблуда Синиранда, годится только псу под хвост. И вот теперь, когда работа уже началась, я это понял и пытаюсь на ходу заворотить в другую сторону. Как тот чертов портной, который сперва рубашку скроил, а потом решил брюки сшить. Что из этого выйдет, а? Но я просто не могу иначе! Так что оба мы влипли, вот какое дело!
Это был довольно длинный и, видимо, искренний монолог. Резинка в штанах все растягивалась и растягивалась, сейчас должно было произойти то, что в физике называется усталостью материала, — резинка лопнет. Может быть, это растяжение резинки вдохновляло Рейна на болтовню о том, что со сценариями частенько случаются подобные истории, что сценарий — всего лишь трамплин и конечный результат зависит (как, кстати, и великий Чаплин утверждал) прежде всего от прыгуна.
— Да, да, сам великий, великий Чаплин, — со вздохом протянул Мадис Картуль. В его горестном взгляде (Рейн не мог заглянуть сразу в оба его глаза) вроде бы загорелся луч надежды: ну раз уж он это сказал, то… то еще не все потеряно! Но луч тут же погас, и Мадис вдруг засмеялся. — Он-то да, маленький человечек, ну а если я, старый брюхан, сигану с твоего трамплина, неизвестно, выплыву ли на поверхность.
Когда Мадис смеялся, туловище его подрагивало, как у лягушки, однако во взгляде было все же что-то орлиное.
— А ну-ка садись! Старый брюхан подвезет тебя на своей трясучке. Давай!