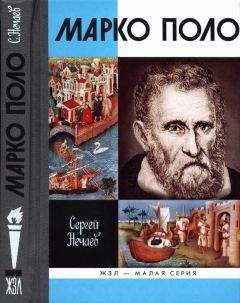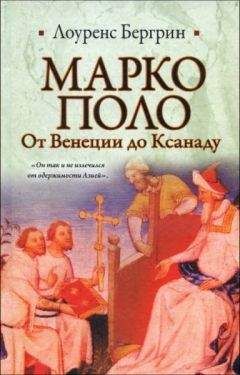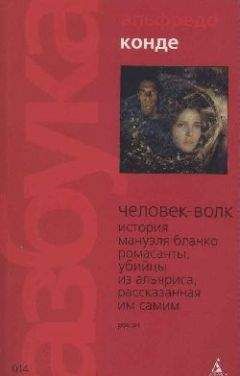Альфредо Конде - Ноа а ее память
Представьте себе мою мать, как я уже сказала, маленькую, светленькую, с голубыми навыкате глазами (что кое-что объясняет); все тело ее отличалось завидной упругостью, и даже щеки, хоть и казались мягкими, были на самом деле твердыми, словно яблочко, — маленькое румяное яблочко. Представьте себе ее приблизительно в том возрасте, в каком я пребываю сейчас, то есть лет около тридцати, представьте себе ее тело, все иссохшее по причине длительной засухи воздержания, которой оно страдало с самого своего расцвета. Представьте себе ее неугомонной, озабоченной бесконечными собраниями, молитвами, работой с дочерьми святой Девы Марии — всей той деятельностью, что помогала ей скрывать свои желания и разочарования. Представьте ее себе такой, и вот уже половина картины перед вами. Вторая половина начинается ранним вечером того же года, летом, когда она и ее сестра Доринда вышивали покровы для алтаря святого Стефания, занимаясь этим на балконе, под которым как раз в скором времени должен был пройти преподобный отец. Это было словно озарение, словно удар молнии: через полчаса моя мать уже стояла в очереди в исповедальню, третьей с конца — столько было народу. Еще через полчаса пришел мой отец, на нем была лиловая епитрахиль, а на голове лихо красовался берет. К тому времени у исповедальни уже собралась толпа перезрелых девиц, и мой прародитель смело шагнул им навстречу: он ни разу не отвел глаз, ни на миг не посетило его сомнение, ни одна улыбка не тронула его, ни разу не забилось его сердце до тех пор, пока уже при входе в исповедальню украдкой брошенный взгляд, робкий взгляд синих очей не посеял волнение в его груди. Это был необычный взгляд, и он узнал его хозяйку, едва только она опустилась на колени перед решеткой исповедальни: он узнал ее по дыханию. Это могла быть только она. И тут, очевидно, вступил в силу шопенгауэровский закон взаимодополняющих, поскольку должна сказать, что отец мой был высок и хорош собой, а мать низенькой и светленькой. Итак, он сразу же узнал ее и нежно спросил прерывающимся голосом: «Аве, Пречистая Дева Мария, сколько времени ты уже не исповедовалась?», — на что она ответила, обволакивая его горячим и влажным дыханием: «Давно… недавно… не знаю, я не помню». Посланник Господа набрал воздуха в легкие и вновь прерывающимся голосом, который теперь звучал хрипло и низко, сказал: «Много ли ты грешила с тех пор?» — «Совсем не грешила, — отвечала она, — но мне бы так хотелось!» Мой отец сделал вид, что ничего этого не слышал, и исповедь потекла по привычному руслу. «А чья ты дочь?» — «А сколько тебе лет, дочь моя?» — «И ты говоришь, что ни разу не спала с мужчиной?» — «Это в твои-то годы?» И тут она разрыдалась, как робкая безутешная девчушка. Тогда она плакала перед моим отцом впервые; во второй раз это было уже от удовольствия, и потом случалось, по-видимому, каждый раз, поскольку была такая особенность у моей матери: стонать от наслаждения, рыдать в экстазе, заходиться в плаче похлеще целой дюжины плакальщиц и до и после тех самых индульгенций, о которых я уже упоминала в самом начале моей истории. Мне об этом расскажет позже мой отец — к тому времени он уже станет стареньким и снисходительным (в молодости же он думал только о юбках), а я буду еще юной, но давно потерявшей невинность изящной девушкой — так вот, он расскажет мне об этом, намекая на серьезнейшие проблемы, которые возникали у него на его исповедническом поприще в связи с такой предрасположенностью моей матери к обильной слезливости: он настолько привык связывать плач с наслаждением, что всякий раз, когда какая-нибудь кающаяся грешница принималась плакать, случалось ли это в исповедальне или в ризнице, как у него начиналась эрекция, что, хоть и не было чем-то из ряда вон выходящим, но могло быть расценено как проявление непочтительности или даже святотатства, и у моего отца, истинного и искреннего посланника Господа, не обладающего никакими иными недостатками, кроме неладов с седьмой заповедью, это вызывало искренние угрызения совести и усиленные попытки всячески скрыть свою боевую готовность. Но тогда, во время первого приступа плача, о котором я рассказываю, возможно, оттого, что он был первым, мой отец еще не находился в плену рецидивного сатириаза, который будет преследовать его до самой старости, как он признавался мне без всяких обиняков. В тот раз он лишь решил про себя, что непременно посетит дом с низким каменным балконом, на котором светловолосые сестры вышивали покровы для алтаря Господня. Он так и сделал, и с того самого дня и пошла о моей матери слава потаскушки невысокого полета и неширокого размаха, чья жеманная совесть заставляла ее отправляться на исповедь тотчас же по совершении греха, как поговаривали злые языки в городке; ибо она отдавала свое тело лишь ради любви и наслаждения, а это, по всей видимости, приходилось совсем не по нраву легиону кающихся грешниц. Ведь если она и не лишила их исповедника, то, во всяком случае, умыкнула у них отважного боевого петушка со шпорами. Доказывает же все случившееся лишь то, что мои отец и мать были созданы друг для друга, и к такому выводу непременно придет внимательный читатель этой истории, взяв на себя труд перечесть начало моих воспоминаний, как раз в том месте, где я начинаю свой бег сквозь зарождающееся утро, как раз там, где воздушные олени, возлежащие на каменных плитах Каейры, отражают в обволакивающем их воздухе, на ветру, ослепительно белые отблески робкого, наполненного влагой рассвета. Именно там. Да, там.
Все это произошло летом 1939 года, за несколько дней до решающего визита моего отца в дом с низким каменным балконом; визит состоялся в час не слишком привычный для такого рода посещений и побудил моего деда без какой-либо видимой причины, очевидно, лишь под воздействием строго соблюдаемых законов гостеприимства, пригласить того, кому в скором времени суждено было стать моим родителем, остаться отобедать с семейством, которое, для вашего сведения, состояло из уже упомянутого деда, рантье с некоторой склонностью к карточным играм — ломберу и туте, моей бабки, полногрудой дамы, убирающей волосы в узел на макушке, и Доринды, сестры моей матери, так и не вышедшей замуж (я готова подозревать ее в том, что она не раз делила любовь и индульгенцию с моими родителями), а также из пса, названного Неем в память о французском генерале (впрочем, так звали почти всех собак в городке, а тех, кого не звали Неем, называли Сультом также в память и ради увековечения славы другого наполеоновского генерала), из двух кошек и кенаря в клетке, который, скорее всего, был самкой, поскольку я никогда не слышала, чтобы он пел. Ни к чему отрицать, что семья придерживалась правой ориентации, пользовалась до установления республики всеми возможными привилегиями, и появление моего преподобного отца было встречено проявлениями радостного и искреннего расположения, глубокого уважения, старомодной покорности и созерцательного внимания.
Все уселись за стол, и мой отец, в соответствии со своим священным предназначением, благословил «пищу, кою мы по воле Твоей, Господи, будем вкушать, аминь», проявив себя, таким образом, истинным кабальеро и заставив удовлетворенно улыбнуться все семейство, начиная с моей бабки, приступившей к трапезе с некоторой настороженностью и тревогой, вызванными мимолетным, но откровенным взглядом, который святой отец бросил на уже упомянутые хорошо оформленные выпуклости на ее груди; с одной стороны, взгляд этот был ей приятен, но с другой — внушал вполне понятное беспокойство. Впрочем, беспокойство это тут же улетучилось, едва на скатерть поставили супницу производства королевского завода Саргаделос; дымящийся в ней суп, знаменитое косидо{7}, был тоже поистине королевским, а искусно вышитая скатерть являлась плодом не менее искусных рук моих матери и тетушки, каждая из которых внесла свою лепту в создание рисунка и последующее оформление сего произведения искусства. Состояние удовлетворения распространилось и на моего деда, который на практике применял поговорку, рекомендующую быть немым пока ешь, молча кивать, не вникая в разговор, и побыстрее вести дело к концу; захватило оно и Доринду и наконец полностью овладело моей матерью. В какой-то момент она задела своей ногой ногу моего отца и поняла, что это касание было лишь предвестником последующих гораздо более серьезных, многообещающих и интимных прикосновений.
Моя бабушка допустила вопиющую бестактность, позволив себе обсуждать с моим отцом, в его положении и качестве священнослужителя, эпитафию, которую завещал написать на своем надгробье один из моих двоюродных дедушек, известный откровенным беспутством, неукротимым нравом и нежеланием вступить на путь истинный; гласила эта надпись приблизительно следующее: «Здесь покоится Дон Педро С. С., могучий муж, /волочившийся за шлюхами/ до самой смерти». Приведенная эпитафия беспокоила бабушку до такой степени, что у нее даже возникали серьезные сомнения по поводу последнего пристанища его души, которую она в лучшем случае представляла себе пребывающей в чистилище в нестерпимых мучениях. Этим мучениям суждено было длиться еще по меньшей мере семнадцать веков, согласно расчетам и выводам, сделанным капелланом монастыря Кларисок, маленьким мудрым человечком, уже много лет страдавшим язвой двенадцатиперстной кишки, которая если и не была сама по себе достаточной для того, чтобы увенчать его венцом святости, как ему всегда хотелось, то уж, во всяком случае, беспощадно награждала его венцом мученика. Последнее и служило причиной тому, что на много миль в округе не было другого человека, которого бы так любили приглашать для чтения проповедей, служения панихид и прочих священных обрядов. Истинным удовольствием было слушать, как он в мельчайших подробностях описывает муки ада, страдания чистилища, скитания душ умерших, зубовный скрежет и все то, что только в состоянии вообразить привыкший к страданиям ум человека, лишенного радостей застолья, а это совсем не мало. Мой отец ответил на вызов и, будучи человеком находчивым, представил всю ситуацию в совершенно ином свете, как он умел это делать: он описал наслаждения рая с его вечной евхаристией, бесконечной музыкой и непреходящим экстазом, утверждая, что, вне всякого сомнения, наш добрый дон Педро был туда допущен, ибо ни на мгновение нельзя забывать, что милость Господа бесконечна, а людские грехи ничтожны, особенно если они относятся к тем, о которых шла речь, таким человеческим, таким простительным, таким распространенным. «Не забывайте, дона Росенда, — сказал он бабке, — что Господь наш Иисус был искушен Марией Магдалиной и защищал неверную жену, и это послужило поводом для появления в Евангелии речения, исполненного мощи и смелости, в защиту слабого и его слабостей; не забывайте этого, дона Росенда», — завершил он так, как обычно завершал свои речи, закругляя их и как бы подвешивая в воздухе.