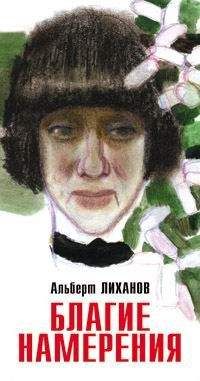Ханс Браннер - Ариэль
Он окликнул ее, и голос Хелены отозвался издалека, словно откуда-то извне. Мгновение он стоял, удивляясь, что она не в постели, но, войдя в комнату, сразу увидел ее за раскрытой дверью балкона, на самом пригреве; волосы ее пламенели в лучах солнца над алой кромкой из осенних цветов.
– Иди сюда, возьми стул и посиди со мной, скорей ступай сюда, я давно тебя жду! – крикнула она ему с балкона, и легкие, светлые, быстрые звуки ее голоса были как пестрые мячики, в волшебной игре перелетающие из рук в руки и вдруг исчезающие, словно их и не было никогда; голос ее, сверкая, кружил над ним и внезапно настиг его, поймал врас-
плох, и он застыл посреди комнаты, будто немой, будто юродивый – ду. рачок, не разбирающий слов, понимающий только звуки. – Ступай же сюда, скорей иди ко мне, – вновь позвала она, – куда ты пропал, отчего не идешь ко мне?
И вот он уже рядом с ней, на припеке, сел, взял руки ее в свои – маленькие прозрачные ручки, покоившиеся на одеяле, которое грело ее колени, – и они потонули в его руках, худенькие, легкие, как птички.
– Что это ты выдумала, – проговорил он, стыдясь нищеты, неуклюжести своих речей, своей нищеты, оттого что не находил для нее других слов, – холод-то какой на дворе, нельзя тебе здесь сидеть, нельзя с постели вставать, слышишь, милая…
Но она, не отвечая, глядела ему в лицо, и скоро в глазах ее зажглась улыбка, разгораясь, заиграла на губах, птицей взлетела с лица и выскользнула на балкон – порхать среди алеющих в ящике цветов, с утренним ветром взмыла над стеной плюща, все выше и выше вздымаясь к свету, к солнцу, и там, в вышине, обратилась в звон, в музыку, вобравшую в себя все: пестрый гомон деревьев в осеннем парке, шум улицы глубоко внизу, хор детских голосов на дальнем дворе. Только он, немой, безгласный, сидел рядом с Хеленой, не в силах ни улыбнуться, ни выдавить из себя слово, не зная, куда спрятать руки, куда девать свое большое, грузное тело. Но она вновь улыбнулась, и притянула его к себе, и обняла за шею, и взъерошила ему волосы – так легко сновали пальцы ее в его волосах, – и этим все сказано было между ними и зачеркнуто, и больше не было уже нужды в словах.
Долго молчали они, и снова заговорила Хелена, а он слушал ее, не поднимая глаз, – застыл на месте, подавшись вперед, сцепив между коленями руки.
– Был туман, когда я проснулась, – сказала Хелена, – был туман нынче утром, и была стужа, крыши оделись инеем. Но когда совсем рассвело, стало видно, что солнце прорвется сквозь дымку, и я велела женщине помочь мне одеться и выкатить на балкон мое кресло. Только здесь могла я высидеть, дожидаясь тебя, мочи моей нет лежать в кровати, както вдруг не стало мочи лежать. Ты не подумай, что я расстроена чем-то, совсем напротив, давно уже не было так радостно на душе. Но этой ночью я не могла уснуть. А теперь я должна кое в чем признаться: конечно, зря я это рассказываю, во всяком случае – тебе, но иногда я молилась Богу. Я же не могла иначе, мне так нужно было верить в Бога, того, что когда-то творил чудеса и сказал калеке: встань и иди. И я молила Бога, чтобы он и со мной сотворил чудо. Конечно, тщетны были мои мольбы, и помочь мне нельзя – одна горечь копилась в душе. Но я не смела отступиться от Бога и молила его все о том же. И нынче ночью я получила ответ. Господь покинул наш дом: я слышала, как отдалялись звуки его шагов и наконец затихли совсем. Представляешь, милый: шаги господни, затихающие в пространстве?… Вот оно, мое чудо. Только в эту минуту я воистину поверила в Бога. И теперь я могу встать и идти. Нет, нет, ты совсем не так меня понял, я правда могу встать и пойти куда захочу, делать все, что ни пожелаю. А желаний моих, любимый, не счесть. Скорей же уйдем отсюда, возьмемся за руки и выйдем на улицу, весь город обойдем, а после уедем куда-нибудь, как делали в юности, только тогда мы видели лишь друг друга, а теперь мы станем глядеть вокруг во все глаза, и все будет нам внове: новые люди и новые места, новые дни и ночи… Нет, ты заблуждаешься на мой счет, все это я говорю всерьез; поверь, я здорова, я снова живу, и все при мне – ноги, бедра и груди, я женщина из женщин, и я хочу с тобой спать, хочу любить тебя и раствориться в тебе, в твоем нескладном, большом, тяжелом, чудесном теле. Иди же ко мне, любимый, поцелуй меня, обними…
Он не смотрел на нее, он закрыл глаза и отдался мечте, страшной, дикой мечте, отчаянной мольбе о несбыточном. Помоги мне, Боже, взмолился он про себя, и руки его вслепую зашарили под одеялом, а губы разомкнулись и приникли к ее губам. И тут же все кончилось. Острой, колючей кости коснулась его рука, и казалось, смертоносный груз вновь раздавил ее тело: белое пламя боли прожгло ее всю, губы ее раскрылись кровавой раной и слабый их поцелуй опалил его горячечным жаром. Она боролась с собой, боясь разрыдаться, но, когда у него наконец достало мужества взглянуть ей в лицо, она вновь обласкала его улыбкой и запустила пальцы в его волосы.
– Ты чуточку неловок, милый, – сказала она и снова растрепала его, – ты сделал мне больно, нет, не очень, самую малость, но какое счастье ощутить боль, снова стать живым человеком. А теперь идем. Нет, не так, милый, я не хочу ехать в кресле, хочу ходить, так возьми же меня на руки и пронеси сквозь комнаты, как, помнится, ты сделал однажды, в тот самый-самый первый раз…
Она обвила рукой его шею, и он поднял ее с кресла и, осторожно переступив порог, внес в комнату. День был в разгаре, солнце уже стояло над деревьями парка, вдали шумел ветер, и плечи ее легонько вздрагивали, плачет, подумал он, надо утешить ее, глядеть ей в глаза, говорить с ней. Но лица ее он не видел и лишь спустя мгновение с изумлением понял, что она не плакала, а смеялась, беззвучно смеялась, как солнце, которое резвилось в комнате, повсюду рассыпая мимолетные свои дары: у ног его на полу плясали блики, длинные крылья света рдели над хаосом книжных полок, над стаей книжных корешков, над огромной картиной с ее великолепием чистых красок. Странно, он впервые видел все это, странно, что прежде не знал ни вещей своих, ни книг, ни картин и только сейчас, в этот миг, они обрели в его глазах жизнь, зримый облик… и в тот же миг он почувствовал, как тает живая ноша в его руках, все легче и легче становилась она – и разняла его руки, и высвободилась из объятий, и побежала по полу, которого не было, сквозь стены, которых не было, среди отражений мертвых вещей, которые распадались на глазах, превращаясь в свет – свет, и пламя, и воздух. Он знал: мгновение – и все исчезнет, он знал, он чувствовал – снова вскипит волна и сметет эту бесплотную комнату, этот смех, эти светлые нити, протянутые над невидимыми пропастями и безднами, с тьмой примиряющие тьму, но тут же подумал: какая важность, миг этот и есть моя жизнь, моя участь. Только он это подумал, как все мертвые вещи вернулись и комната приняла прежний вид, а он стоял, где и был, шатаясь под бременем столь тяжким, что никто не в силах его снести. Он торопливо огляделся в поисках места, куда бы опуститься со своей ношей, и рухнул на стул, из последних сил – последних сил и души, и тела – стараясь спасти Хелену от боли, удержать ее на руках. Тут наконец он дал волю рыданиям.
Он рыдал, как дитя – слабое человеческое существо, пропащая, но вольная душа, – долго-долго рыдал, и Хелена, сомкнув вокруг него прозрачные руки, вознесла его к чистым, светлым высям печали.