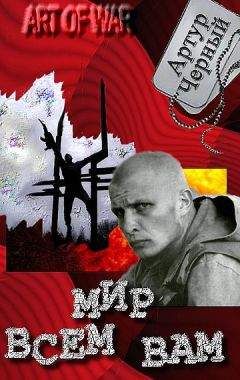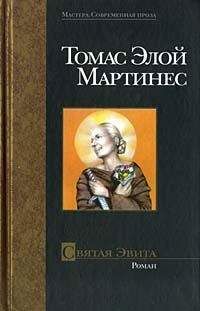Томас Мартинес - Он поет танго
Мартель родился в конце знойного лета 1945 года в трамвае 96-го маршрута, который в те времена тянулся от Вилья-Уркиса до Пласа-де-Майо. Около трех часов дня сеньора Оливия де Каккаче шла по улице Донадо, чуть дыша — насколько позволял ей седьмой месяц беременности. Она шла к своей сестре, заболевшей гриппом, с корзинкой горчичников и свертком молочных карамелек в целлофановой упаковке. Плиты тротуара отставали одна от другой, и сеньора Оливия передвигалась с осторожностью. Вид у всех домов в этом квартале был исключительно однообразный: пузатый балкон из кованого железа, справа дорожка, ведущая к застекленной двери с узором и монограммами. Под балконом находилось забранное решеткой оконце, в котором иногда возникали лица старушек или детей — для них этот уличный пейзаж с мостовой на уровне глаз являлся единственным развлечением. Ни один из этих домов не остался таким, каким был полвека назад. Большинству семей, чтобы добыть средства к существованию, пришлось продать на строительные склады и стекла из дверей, и решетки с балконов. Когда сеньора Оливия проходила мимо дома номер 1620 по улице Донадо, мужская рука ухватила ее за лодыжку и повалила на тротуар. Позже было установлено, что в этом доме проживал умственно отсталый почти сорока лет отроду, которого оставили возле полуподвального окошка, чтобы он подышал воздухом. Привлеченный кульком молочных карамелек, идиот не придумал ничего лучше, как сбить женщину с ног.
Услыхав жалобные крики, какой-то заботливый прохожий помог сеньоре Оливии сесть в 96-й трамвай, который как раз в это время выворачивал из-за угла. Этот маршрут проходил мимо нескольких больниц, и добрый прохожий попросил вагоновожатого высадить женщину возле первой, которая встретится на пути. Ни до одной из них добраться не удалось. Через десять минут путешествия на трамвае сеньора Оливия почувствовала, что у нее водопадом отходят воды, и поняла: роды начнутся незамедлительно. Трамвай остановился, водитель в отчаянии бросился звонить в соседние дома в поисках ножниц и кипятка. Недоношенного ребенка, мальчика, пришлось положить в инкубатор. Мать настояла, чтобы его как можно скорее окрестили тем же именем, которое носил его отец, умерший полгода назад, — Стефано. Ни приходской священник, ни муниципальный чиновник не согласились на итальянское написание, поэтому в итоге мальчика записали как Эстефано Эстебан.
Хотя у мальчика обнаружилась аллергия на кошек и пыльцу, хотя он часто страдал от диареи и головных болей, до шести лет он рос вполне нормальным ребенком. Он обожал играть в футбол, и, казалось, у мальчика особый талант к фланговым атакам. Все вечера напролет, пока сеньора Оливия упорно трудилась за швейной машинкой, Эстефано гонялся по двору вслед за мячом, уклоняясь от воображаемых противников. Однажды вышло так, что он споткнулся о кирпич и упал. У него тут же возник огромный кровоподтек на левой ноге. Боль была ужасная, однако само по себе это происшествие выглядело столь незначительным, что мать не придала ему значения. На следующий день пятно расширилось и окрасилось в угрожающий пунцовый цвет.
В больнице у Эстефано обнаружили гемофилию. Он пролежал месяц в состоянии неподвижности. Когда он встал на ноги, легкий удар о стул вызвал новое кровоизлияние. Ногу пришлось загипсовать. Мальчик оказался приговорен к такому долгому периоду неподвижности, что его мускулы перестали работать. С тех самых пор — если вообще бывает «самая пора» для того, что никогда не кончится, — несчастья преследовали его бесконечно. Верхняя часть тела Эстефано развивалась стремительно, вне всякой гармонии с рахитичными ногами. Он не мог ходить в школу, и его навещал единственный друг, Андраде Курчавый, который приносил ему книги и соглашался играть с ним в эскобу и труко[18]. Мальчик легко научился читать — с помощью частных учительниц, учивших его бесплатно. В одиннадцать и двенадцать лет он часами слушал танго по радио, и когда какая-нибудь из песен вызывала у него интерес, Эстефано переписывал слова в тетрадку. Иногда он записывал также и мелодию. Поскольку мальчик не знал нотной грамоты, он разработал собственную систему стрелочек, точек десяти или двенадцати цветов и разных подчеркиваний, что позволяло ему запоминать аккорды и ритмы.
В день, когда одна из клиенток сеньоры Оливии принесла ему старый номер журнала «Красавцы 1900 года», на Эстефано снизошла благодать. В журнале были напечатаны танго, вышедшие из репертуара еще в начале двадцатого века, — те, в которых пелось о любовных передрягах в борделе. Эстефано не понимал значения слов, которые читал. Мать и ее клиентки тоже не могли ему помочь, потому что язык этих танго был выдуман для того, чтобы говорить намеками об интимной близости людей, умерших много лет назад. Однако их звуки были очень красноречивы. Поскольку оригинальные партитуры давно исчезли, Эстефано изобрел мелодии, звучавшие в стиле «Парня из Энтре-Риос» и «Красотки» и наложил их на такие вот слова: En cuanto te zampo el zumbo / se me alondra el leporino / dentro tends tanto rumbo / que si jungo, me entrefino[19].
В пятнадцать лет он знал более сотни песен, он мог их спеть даже задом наперед, так же переворачивая и придуманную к ним музыку, но делал это, только когда мать уходила из дому, чтобы отнести готовые заказы. Эстефано запирался в ванной, где его не могли слышать соседи, и выпускал на волю свое мощное и сладкое сопрано. Красота собственного пения трогала юношу настолько, что он начинал плакать, сам того не замечая. Певцу казалось невероятным, что этот голос принадлежит именно ему — ведь он относился к себе самому с глубоким презрением и недоверием, — а не Карлосу Гарделю, обладателю всех на свете голосов. Он осматривал в зеркале свое увечное тело и предлагал Богу все, чем он является, и все, чем когда-нибудь сможет стать, в обмен на один-единственный жест, в котором обнаружится сходство с его идолом. Эстефано часами просиживал перед зеркалом и, набросив на плечи белый шарф своей матери, повторял фразы, которые великий певец произносил в голливудских фильмах: «А, здравствуй, ласточка», «Гляди, какая долгая заря».
У Эстефано были пухлые губы и курчавые непослушные волосы. Достичь какого-либо физического сходства с Гарделем было невозможно. Тогда юноша принимался копировать его улыбку, добиваясь, чтобы получилась кривая усмешка, собирая морщинки на лбу и обнажая белоснежные зубы. «День добрый, добрый человек, — произносил он. — Ну как жизнь?»
В шестнадцать лет, когда Эстефано сняли гипс, ноги его были слабыми и негнущимися. Специалист-кинесиолог помог ему укрепить мускулы, в обмен на это сеньора Оливия бесплатно обшила всю его семью. У Эстефано ушло шесть месяцев на то, чтобы научиться ходить на костылях, и еще шесть — чтобы передвигаться с помощью тростей, испытывая при этом ужас перед новым падением и еще одной долгой неподвижностью.
В одно воскресное утро сеньора Оливия и две ее подруги вывели юношу в парк развлечений на проспекте Освободителя. Поскольку ему не разрешили прокатиться ни на одном из аттракционов, опасаясь, как бы он не ударился, как бы снова не переломились хрупкие косточки, Эстефано весь вечер скучал, утешаясь лишь сахарной ватой, которую покупал ему Андраде Курчавый. И вот тогда-то юноша и разглядел возле шатра с поездом-призраком киоск с надписью «Электроакустика», в котором голоса записывали на пластинки за умеренную плату в 3 песо. Эстефано убедил женщин совершить по меньшей мере два полных круга на поезде, а сам, как только увидел, что они исчезают в темноте, проскользнул в киоск и записал «Квартирку на Аякучо», пытаясь подражать той записи, в которой Гарделю аккомпанирует гитара Хосе Рикардо.
Когда юноша закончил, звукооператор попросил его спеть еще раз, потому что на пластинке, кажется, остались какие-то царапины. Эстефано повторил то же танго, но уже нервно, в более быстром темпе. Он боялся, что его мать уже выбралась из поезда и ищет его повсюду.
Как тебя зовут, приятель? спросил оператор.
Эстефано. Но я подумываю о более артистическом имени.
С таким голосом оно тебе не понадобится. В твоей глотке солнце живет.
Юный певец сунул под рубашку вторую запись, которая вышла хуже; ему повезло: он опередил свою мать, которая, как ни странно, делала уже третий круг на поезде-призраке.
Какое-то время Эстефано провел в поисках граммофона, чтобы втайне прослушать свою пластинку, но у его знакомых не было граммофонов, а уж тем более со скоростью 45 оборотов — именно такая пластинка досталась ему в киоске звукозаписи. На поверхность диска плохо влияли жара, сырость и пыль, скопившаяся между страницами подшивки журнала «Красавцы 1900 года». Эстефано решил, что записанный и невостребованный голос уже безвозвратно утрачен, но однажды в субботу, когда он сидел вместе с матерью на кухне и слушал по радио популярную передачу «Лестница к славе», ведущий заговорил о потрясении, которым явилась песня «Квартирка на Аякучо», записанная безымянным певцом a capella[20] в какой-то сомнительной студии. Благодаря чудесным свойствам магнитных пленок, продолжал ведущий, теперь этот голос подчеркнут аккомпанементом бандонеона[21] и скрипки. Эстефано тут же узнал свою первую запись, которую звукооператор из парка притворно объявил испорченной, и побледнел. Он был разлучен с собственным голосом и все же чувствовал, что связан с ним ниточкой восхищения, которое можно испытывать лишь перед чем-то, чем мы не владеем. Это не был голос, который он искал или который хотел бы иметь, — этот голос нашел себе пристанище в его горле. И, не имея ничего общего с его телом, голос мог отделиться от него в самый неожиданный момент. Кто знает, сколько уже он путешествовал в прошлом и сколько других голосов заключал в себе. Для Эстефано имело значение только одно: похож ли он на голос Карлоса Гарделя. Поэтому комментарий матери, слушавшей «Лестницу к славе» вместе с ним, польстил юноше: