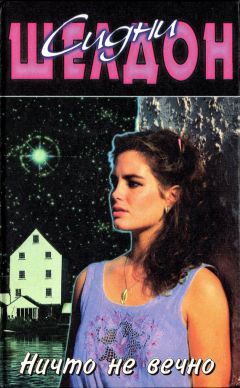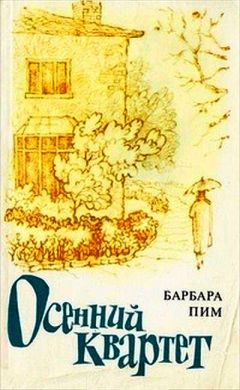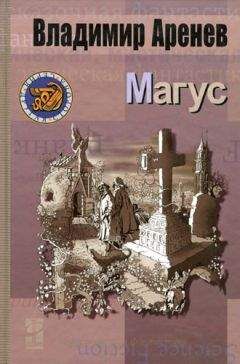Барбара Пим - Осенний квартет
Может быть, и потому, что Летти, единственная из этой четверки, действительно любила читать, она, единственная же, завтракала не в конторе. Ресторан, который она обычно посещала, назывался «Рандеву», хотя он не очень-то подходил для романтических свиданий. Люди, работающие поблизости, толпились там от двенадцати до двух, старались побыстрее съесть заказанное и убегали. Когда Летти села за столик, там уже сидел какой-то мужчина. Он сунул ей меню, бросив на нее быстрый, неприязненный взгляд. Ему подали кофе, он выпил его, оставил официантке пять пенсов и ушел. Женщина, занявшая его место, начала старательно изучать карточку, подняла на Летти свои блекло-голубые глаза, в которых сквозила тревога по поводу новых налогов, и, очевидно, собиралась высказаться относительно роста цен. Потом, поняв, что отклика на это от Летти не дождешься, опустила взгляд, заказала макаронную запеканку с картофельной стружкой и стакан воды. Подходящий момент был упущен…
Летти взяла счет и встала из-за стола. Несмотря на внешнее безразличие, она все прочувствовала. Человек потянулся к ней. Они могли бы поговорить, и между двумя одинокими женщинами завязалась бы какая-то связь. Но, заморив червячка, ее соседка низко нагнулась над своей запеканкой. Для каких-либо дружеских жестов время было упущено. И в который раз Летти не удалось установить контакт с человеком.
Вернувшись в контору, Эдвин, порядочный сластена, откусил голову у черного мармеладного голыша. Ни в его поступке, ни в выборе десерта не было ничего расистского. Просто он любил острый лакричный вкус черных голышек, предпочитая их более пресному апельсиновому или малиновому «типажу» мармелада. Мармеладный голыш был последним блюдом его ленча, который он обычно съедал за своим письменным столом среди бумаг и ящиков с карточками.
Когда Летти вошла в комнату, Эдвин протянул ей пакет с мармеладными голышами, так уж у них было принято, но он знал, что она откажется от угощения. Увлекаться сластями значило потакать своим слабостям, и, хотя теперь Летти уже перевалило за шестьдесят, из этого не следовало, что она может не заботиться о своей худенькой, стройной фигуре.
Остальные обитатели этой комнаты тоже завтракали. Норман ел куриную ножку, а Марсия кое-как слепленный сандвич с торчащими из него салатными листьями и скользкими ломтиками помидора. Из электрического чайника, стоявшего на коврике на полу, валил пар. Кто-то включил его, собираясь выпить чаю, а выключить забыл.
Норман завернул куриную косточку в бумагу и аккуратно положил ее в корзинку под столом. Эдвин не спеша опустил в кружку пакетик с заваркой и залил его кипятком из чайника. Потом добавил туда ломтик лимона из круглой пластиковой коробочки. Марсия открыла банку с растворимым кофе и налила кипятку в две кружки — себе и Норману. Ничего многозначительного в этом поступке не было — просто они завели между собой такой обычай из соображений удобства. Оба любили кофе, а покупать большую банку и делить ее на двоих было дешевле. Летти, уже позавтракавшая в ресторане, не стала пить чай, а принесла из уборной стакан воды и поставила его на свой стол, на цветную, ручной работы соломенную салфеточку. Ее место было у окна, она держала на подоконнике горшки с вьющимися растениями, с теми, что размножаются путем выброса побегов — своих точных крошечных копий, которые идут в рост после пересадки. «Природу любишь ты, а вслед за ней Искусство», — процитировал однажды Эдвин и даже хотел продолжить, что Летти «руки грела у жизни на ее огне», — греть-то грела, но, учтите, не на таком уж близком расстоянии. И вот теперь этот огонь угасает для каждого из них. Так неужели же она и все они готовы покинуть этот мир?
Нечто подобное, видимо, возникло в подсознании и у Нормана, просматривающего газету.
— Ги-по-тер-мия, — по слогам прочитал он. — Умерла еще одна старуха. Надо быть осторожнее, не то подхватишь эту гипотермию.
— Ее не подхватывают, — авторитетно заявила Марсия. — Это не заразная болезнь.
— Положим, если человека нашли мертвым, как эту старуху, считайте, что именно гипотермию она и подхватила, — сказал Норман в оправдание своего диагноза.
Рука Летти потянулась к радиатору и там и осталась. — По-моему, это такое состояние или результат таких обстоятельств, когда человеческое тело охлаждается, теряет тепло… словом, что-то в этом роде.
— Значит, это всех нас касается, — сказал Норман своим отрывистым голоском под стать его щуплой, миниатюрной фигуре. — Найдут нас когда-нибудь умершими от гипотермии.
Марсия улыбнулась и нащупала у себя в сумке листовку, взятую сегодня в библиотеке, — ту, в которой говорилось о скидке на плату за отопление в домах, где живут престарелые, но ни с кем этими сведениями не поделилась.
— Веселый разговор, — сказал Эдвин, — но, пожалуй, весьма уместный. Четыре человека, каждый накануне выхода на пенсию, каждый живет в одиночестве, родственников поблизости ни у кого нет — это все про нас.
Летти пробормотала что-то, видимо не соглашаясь с ним. И все же это была неоспоримая истина — каждый из них жил сам по себе. Как ни странно, они заговорили об этом еще сегодня утром — навела их на такой разговор опять какая-то заметка в газете Нормана. Вспомнили, что скоро День матери, значит, магазины полны всяких «подарков», и цены на цветы сразу подскочили. Правда, цветов никто из них не покупал, но вздорожание заметили и подвергли обсуждению со всех сторон. Вряд ли у людей их поколения матери могли быть в живых, так что дороговизна им не страшна. Но, откровенно говоря, иногда странно было вспоминать, что мать была у каждого из них. У Эдвина она дожила до почтенного возраста — до семидесяти пяти лет и скончалась после непродолжительной болезни, не обременяя своего сына заботами. Мать Марсии умерла не так давно в лондонском пригороде (Марсия теперь жила в ее доме одна), умерла в спальне на втором этаже, а возле нее лежал старый кот по кличке Снежок. Старушка скончалась восьмидесяти девяти лет, в возрасте, считающемся древним, но ничего примечательного в ней не было, ничем особенным она не отличалась. Мать Летти умерла в конце войны, и отец женился вторично. Потом и отец умер, а мачеха спустя время нашла себе другого мужа, так что Летти потеряла всякую связь с тем городом на западе Англии, где она родилась и выросла. Она предавалась сентиментальным и не совсем точным воспоминаниям о том, как мать гуляла по своему садику в свободном легком платье и обрезала увядшие цветы. Один только Норман не помнил своей матери. «Не было у меня мамочки», — говорил он, как всегда иронично, с обидой в голосе. Его и сестру вырастила тетка, но именно он свирепее всех обрушился на торгашеский дух, проникший в старинный обычай празднования Материнского воскресенья.
— Вам-то хорошо, у вас есть церковь, — сказал Норман, обращаясь к Эдвину.
— И отец Геллибренд, — сказала Марсия, потому что они столько всего слышали об отце Г., как его называл Эдвин, и завидовали Эдвину, что у него есть такая надежная опора — церковь недалеко от Клэпем-Коммон, где он был церковным распорядителем (что бы это ни значило) и членом приходского совета. С Эдвином все будет в порядке, потому что он хоть и вдовец и живет один, у него есть замужняя дочь в Бекнеме, которая, конечно, позаботится о том, чтобы старика отца не нашли мертвым от гипотермии.
— О да! Отец Г. надежная опора, на него можно положиться, — согласился Эдвин. Но ведь церковь открыта для всех. Он удивлялся, почему ни Летти, ни Марсия не ходят в церковь.
Почему не ходит Норман, это еще можно понять.
Дверь распахнулась, и в комнату вошла вызывающего вида, развязная, пышущая здоровьем молодая негритянка.
— Почта есть? — спросила она.
Все четверо почувствовали, какими они должны выглядеть в ее глазах. Эдвин, наверно, крупный, лысый, с розоватым лицом, Норман маленький, сухенький, седина точно щетка, Марсия, как всегда какая-то чудная, Летти поблекшая, с пушистыми волосами, на вид такая провинциалка, а все еще печется о своих нарядах.
— Почта? — заговорил Эдвин, первым откликнувшись на вопрос девушки. — Да нет, Юлалия. Почту мы раньше половины четвертого не сдаем, а сейчас… — он сверился со своими часами, — …сейчас точно два часа сорок две минуты. Хитрит, авось получится, — сказал он, когда потерпевшая неудачу девушка вышла.
— Норовит удрать пораньше, лентяйка такая-сякая, — сказал Норман.
Марсия устало закрыла глаза, когда Норман начал прохаживаться насчет «черных». Летти попробовала переменить тему разговора, ей было неприятно осуждать Юлалию или заслужить обвинение в неприязни к цветным. Но все же эта девица вызывала раздражение, и ее не мешало бы одернуть, хотя в такой бьющей через край жизнестойкости, несомненно, было что-то беспокоящее, особенно на взгляд пожилой женщины, которая чувствует себя рядом с ней еще более седой и какой-то выпотрошенной, иссохшей на слабеньком английском солнце.