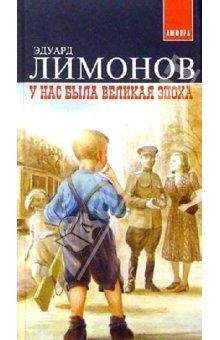Елена Сазанович - Циркачка
– Паганини, – тихо окликнул он меня. Моим юношеским, давно забытым прозвищем, – у тебя прекрасные руки. Еще ничего не поздно, Паганини, – уговаривал он меня, как маленького.
– Спасибо, учитель.
– Время никогда не бывает напрасным. Запомни это, мой мальчик. Как знать, возможно, самая виртуозная, самая отчаянная музыка рождалась из самого безнадежного равнодушия.
– Мне казалось, я прекрасно жил эти годы, учитель. А оказалось – я прекрасно умирал…
– Я рад, что ты пришел, Паганини, – он легонько похлопал меня по плечу. – Тебе еще много осталось. А мне… Я так боялся, что ты не придешь…
И он резко повернулся. И молча прикрыл за собой дверь. Он не изменился, мой учитель. И, как прежде, терпеть не мог сентиментальных сцен. Хотя в душе, я уверен, их переживал не однажды.
Он покинул меня. Оставил наедине с собой. Так и не предложив остаться. Но я знал. Знал, что он хочет этого. Что в моем одиночестве, в его маленькой пустой комнате с черным роялем. Он верил, что я смогу сделать какой-то шаг. И когда-то я оправдывал его надежды. Подолгу вглядываясь в безмолвные стены. В безмолвную ночь. Я все равно приближался к этому чопорному ласковому другу. И открывал крышку. И уходил, погружаясь все глубже и глубже в сумасшедшие звуки, пробивающие сквозь пустые безмолвные стены, пустую, безмолвную ночь…
И сегодня я вновь. Как тысячу лет назад, приблизился робко, неуверенно к роялю. И открыл крышку, Мои руки, непослушные пальцы. Не сгибающиеся кисти. Мои руки, знающие уже совсем другую музыку.
Пропитанную дымом и пивом скучных бессмысленных вечеров в ресторанчике. И сегодня. Прямо сейчас. Я должен сделать этот шаг. Я должен исполнить свой долг перед учителем. Свою клятву. Я должен уничтожить эту похмельную бездарную музыку раз и навсегда. Чтобы возродиться вновь…
Первые ноты. Первые звуки, первый хмель в голове. Первое сумасшествие. Все это уже было, неужели со мной? И почему я так легко от этого отказался? Разве можно играть судьбой? Играть можно только на рояле.
Я хочу играть… Ка-па. Ка-па. Ка-па. Я не в силах повторять эти звуки, оглушительная боль пронзает мой мозг. Нет. Сегодня я должен. Должен решиться. И, преодолевая эту боль, я заиграл. Ка-па… И мои звуки пробивали безмолвные стены, вонзались в беззвездную ночь. Капа… Я помню ее лицо. Так ясно. Так отчетливо. Словно это было вчера. Капа. Я над тобой умирал. И почему я тогда не умер? Капа? Это было бы несправедливо по отношению к моему учителю. Моей музыке. По отношению к тебе. Ка-па. Ка-па. Ка-па. Ты была такой живой, моя девочка. Что мне трудно поверить, что тебя больше нет. Ты была такой живой, моя бедная девочка. И твои глаза. Два круглых янтарных шарика. Они всегда смеялись. Даже когда твое сердце погружалось в печаль. Они всегда сверкали. Два круглых янтарных солнца. Даже когда хмурая ночь обволакивала твою комнату. Мне с тех пор больно смотреть на солнце. А, впрочем, я лгу. Я просто на него давно не смотрю. Мне просто это уже не надо. Но почему все так получилось, Капа? Ну, почему судьба один раз подарив мне весь мир, тут же его и отняла. Впрочем, я вновь лгу. Я сам отказался от этих беспокойных подарков. Я просто испугался… Я выбрал покой. И только теперь понял. Теперь осознал. Что покой – это не дар. Моей судьбы. Это ее бездарность.
Мое сердце бешено колотилось… Нет, все началось не с этого. Я разглядываю себя со стороны. Я смотрю на себя сверху вниз. С высоты своих прожитых лет. Вон там, где-то далеко. Виднеется парень. Далеко не красивый. Далеко не высокий. Длинноносый и черноволосый. Чертовски обаятельный. С дьявольским блеском в глазах. Ужасно похожий на Паганини. И его пальцы в любой момент могут виртуозно забегать по клавишам.
И его сумасшедшее сердце может легко выпрыгнуть из груди и помчаться в неведомые страны, в неведомые миры. Привет, Паганини! Привет!
– Привет! – я хмуро смотрю на рояль. На единственного свидетели моих воспоминаний. Лакированного и кривоногого. Я подаюсь. Что скоро. Совсем скоро. Он заговорит. Вслух. За меня. Моими мыслями. Моей памятью. Моими прожитыми годами…
В консерватории я был довольно заметной фигурой. Длинные черные волосы мягко спадали на мои плечи. Но на девчонку я никак не был похож. Длинный нос выдавал во мне остроумного и остроглазого парня. А низкий рост только подчеркивал величину моих мыслей и замыслов. В общем, даже издалека можно было без ошибки сказать, что я – музыкант. А моя умеренная и вполне обаятельная уродливость тотчас позволила придумать мне прекрасное прозвище – Паганини. Я, не скрывая, гордился своим внешним видом. И своим достойным прозвищем. И, впервые сев за рояль в своем классе, я гордо встряхнул шевелюрой. И с томным, задумчивым видом небрежно опустил руки на клавиши. Но я не был настолько глуп, чтобы не заметить насмешливые искры, прыгающие в глазах учителя. Мы переглянулись. И расхохотались на всю аудиторию. Так состоялось наше первое знакомство.
А вечером я со своими закадычными товарищами прогуливался по шикарному, строгому прямоугольному мосту. И Гришка недовольно морщил свой толстый нос.
– Фу! Как можно строить такую гадость.
Мы с Владом пожимали плечами. Мы ничего не понимали в мостах.
– Настоящий мост всегда дает почувствовать высоту, – не унимался Гришка. – Что под тобой – маленький мир. И ты словно царствуешь над этим миром. Это единственный шанс, чтобы человек понял, что выше всего.
– В таком случае, чтобы узнать высоту, нужно прежде всего узнать – падение. Мне этого не хочется. А тебе, Паганини?
Я вздохнул. Мне этого тоже не хотелось. И царствовать над миром у меня не было никакого желания. Гришка внимательно оглядел меня с ног до головы, словно увидел впервые.
– И почему мы не додумались до этой кликухи раньше? Ты – знаменитый Паганини! Ради этой кликухи стоило поступить в консерву!
Глаза Влада лихорадочно заблестели.
И он облизнулся.
– А у вас там есть приличные девочки? У этих… – и он махнул на Гришку, как на безнадежного. – Вообще баб нет. Бабы мосты не строят.
– А у вас? – без особого интереса спросил я, девочки меня не интересовали.
– А у нас слишком умные, – развел руками Влад. – И слишком.
– Ну, понятно. Разве может быть журналистка моралисткой? – удачно срифмовал я.
– И как они только совмещают. И ум. И аморальность, – последнее слово Гришка буквально выдавил из себя, покраснев до ушей.
– Одно другому не мешает, мой толстый друг, – Влад хлопнул его по плечу. – А вот в консерве, по-моему…
– По-моему, они у нас все чокнутые. Смотрят все время мимо. И еле передвигаются в пространстве. По-моему, думают о вечности. Тебя они точно не заметят, Влад, – и я оглядел его высоченную атлетическую фигуру, – ты слишком для них ничтожен. И очень не похож на вечность.
– Да, – печально вздохнул Влад, – не туда мы пошли учиться, мужики.
– Ну и поступал бы в балетную школу, – съязвил я.
– Или в цирковое училище, – поддержал он меня. – Кстати, о цирке. – И его черные глаза вновь загорелись нездоровым блеском. – Я тут познакомился с одной циркачкой. Первое, так сказать, интервью в моей жизни.
Я усмехнулся.
– Надеюсь, прошло удачно?
– Какая девочка? – мечтательно протянул Влад. – Пальчики оближите.
Гришка вообще не реагировал на наши реплики. И его круглые очки недовольно блестели, разглядывая крупные узоры на прямоугольном мосту.
– Хочешь, познакомлю? – не унимался Влад.
Я кивнул без особого энтузиазма.
А Гришка встрепенулся.
– С кем?! – испугался он. – Не надо меня ни с кем знакомить.
Мы расхохотались.
– В цирк хочешь бесплатно, а, Гриш?
– В цирк… Цирк – это замечательно. Там тоже есть высота…
Я промолчал. И впервые признался себе, что высоты не люблю. И, наверно, боюсь. Я люблю высокое, но не высоту.
А следующим же вечером Влад потащил нас в цирк.
Цирк! Цирк! Цирк! Вас приветствует самый лучший. Самый веселый! Самый забавный в мире! Цирк!
Клоуны, акробаты, жонглеры и фокусники. Море разноцветных гирлянд. Море разноцветного конфетти. Море разноцветных шаров. И мы с головой окунулись в это пестрое море. В эту фантастическую иллюзию. В этот насквозь лживый мир.
Влад чувствовал себя, как дома. Я всегда поражался его способности мгновенно находить общий язык со всеми. Он важно здоровался с артистами за руку. И обменивался краткими, чересчур вежливыми репликами, подчеркивающими его профессионализм.
Перед нами тогда была распахнута вся жизнь. И тогда мы были уверены на все сто, а может и больше. Что вся жизнь вскоре будет лежать у наших ног. Влад с его греческим профилем и голливудской улыбкой. Так удивительно похожий на Маяковского. Так легко покоряющий словесными экспромтами. Гришка, милый толстый очкарик. Сочиняющий самые невероятные проекты головокружительной высоты. Я, легко касающийся длинными тонкими пальцами божественных клавиш. Которые по моей воле рождали мою музыку.