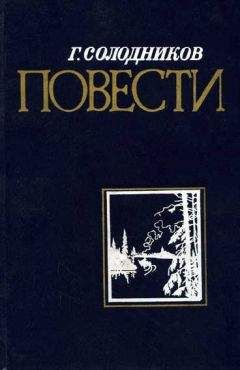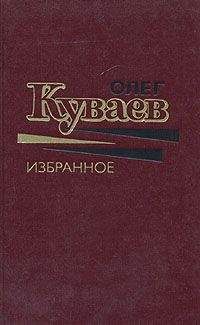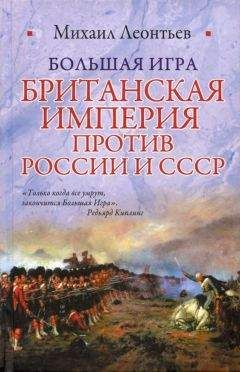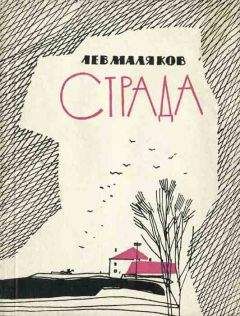Адихан Шадрин - Белуга
Петр с Гришей осторожно добрели до середины мотни, раздвинули мелкую рыбу и немало подивились: на дне мотни лежала огромная белуга, не меньше той, которую поймали вчера. Усман опять скажет: корова.
Ребята потянули белугу за кулаки и, удивленные тем, что открылось им, словно сговорившись, выпустили ее из рук и немигающими, широко раскрытыми глазами смотрели на нее.
– Чава стоишь? Кипа смотришь, да? – нетерпеливо спросил Усман, но тревога ребят уже передалась и ему. – Чава молчишь? Рот закрой – карга залетит.
– Выпотрошенная… белуга-то… – наконец проговорил Гриша.
– Дохлый?
– Живая, ворочает жабрами…
– Чава болтаешь… Кто потрошил?
Белугу выволокли на берег. Она и впрямь была еще жива. Продольный разрез страшно зиял на ее мелко вздрагивающем теле. Ловцы окружили рыбину кольцом и, пораженные, молча смотрели на нее.
Первым опомнился Усман.
– Филипп! – осевшим голосом окликнул он Чебурова. – Ходи сюда! Тот стоял у вешалов, где сушили и ремонтировали запасной невод, о чем-то разговаривал со стариком-чинильщиком. Не зная, по какому случаю понадобился звеньевому, Филипп не заспешил к притонку, а присел на кортки возле старика и помог ему вырезать латку из ядра, чтоб вставить ее в поврежденное крыло невода. И лишь когда Усман во второй раз окликнул и нетерпеливо замахал рукой, Филипп неспешно поднялся и так же вернулся к пригонку.
То, что он увидел, поразило старого рыбака не меньше, чем ребят, еще мало что познавших в жизни. На притонке лежала чуть ли не трехметровая белуга, вспоротая по всей длине брюшины. Бескровное ее тело желтело воском, побелевшие безжизненные глаза неподвижно уставились в небо и, видимо, уже ничего не различали – даже огромного и жаркого солнечного диска. По телу, когда-то сильному и быстрому, мелкой рябью пробегали предсмертные судороги. Она сдержанно дышала, вяло раздвигая щеглы, под которыми чуть приметно вздрагивали слипшиеся бледно-розовые жабры.
Обреченная на смерть еще задолго до того, как неводом вытянули ее из реки, она, отходя, недвижно, живым укором человеческой жестокости и алчности лежала на сыром песке.
Ловцы, с детства свычные каждодневно и каждочасно во множестве вылавливать (и тем самым обрекать на смерть) этих редкостно-могучих и совершенных в своей красоте рыбин, тут, при виде столь неоправданной жестокости, виновато молчали, словно вина неизвестного им человека, сотворившего это зло, была и их виной, а его жестокость – их жестокостью.
7
Стояли рыбаки возле белуги и никто не знал (да никто и не думал о том), что тускнеющие ее глаза, неподвижно нацеленные в небо, видели эту бесконечную синь и желтый диск солнца давно-давно, когда никого из них, даже самого старшего, Филиппа, не было на свете. И тони, конечно же, не было, не тарахтел дизель, не стояла на берегу под ветлами одетая в шифер казарма. Да что там тоня, что казарма, что ветлы! И сама рыбистая Белужка еще не коленила здесь, и камышовые острова, что крутояро высятся вдоль реки, еще лежали в верховьях Волги, Камы и Оки – за многие сотни перст отсюда. Да и сама земля-то плотно, песчинка к песчинке спрессованная водой, и та намного поздней принесена сюда буйными вешними паводками с разных уголков необозримой волжской области – с западных предгорий Урала и клязменских водомоин, с овражистых полей Заволжья и древних муромских косогоров.
В то далекое время здесь было море, по нему гуляли волны-беляки, бегали реюшки под серыми косыми парусами, а зимой на санных подводах съезжались сюда ловцы за белорыбицей, долбили пешнями неподатливый искристый лед, шестами щупали дно, ставили оханы-режаки, а в ожидании улова жили в ледяных буграх, греясь днем работой, ночами – в шалашах, у жарников.
Белужонок тогда впервые попал сюда. Вывелся он из серой липкой икринки в верховьях Волги под Тетюшами. С месяц подрастал в пронырливой стайке таких же колючих плосконосых белужат, креп на вольной приглуби, близ студеных водовертей, жил различными водянками и рачками.
Потом всю стайку вынесло в море – в эту необъятность воды и соли. Вначале белужонок держался в сладимой воде, чуть ниже устья, где в едва заметной солености и рачки помельче и раковины понежней, не то что в морской глуби.
Вот тут-то и вышло с ним небольшое приключение, чуть не стоившее ему жизни. Резвился, гонялся белужонок за малюсеньким бычком и не заметил, как влетел в сеть. А когда вода посветлела и над морем где-то сбоку взошло холодное оранжевое солнце, режак выбрали, и человек, выпутывая белужонка, нечаянно поломал ему щеглу. Белужонок забился от боли, но в тот же миг, выброшенный ввиду своей непомерной малости, плюхнулся в воду.
С годами белужий косяк уходил мористей. В полуводе ловили бычков, воблу и прочую мелкоту. В приглубь не уходили – там жили старые одиночки. Они много лет уже не поднимались в Волгу – давно отметались, отплодились, теперь доживали долгие холодные и одинокие морские годы…
Лет через двадцать белуга со щербатой щеглой почувствовала: что-то внутри не дает ей по-прежнему беззаботно резвиться в морской безбрежности. Инстинкт подсказал ей: надо плыть в те же самые места, где она сама появилась на свет.-
Но чего это ей стоило! Ближе к устью путь ей преградил пугающий смолистой вонью невод. К нему рыбы близко не подплывали, шли косячками вдоль стены, искали ход на свежую сентябрьскую струю. Каким-то чудом им удалось найти пролаз, образовавшийся меж дном и нижней подборкой ловушки.
В другой раз долго и осторожно обходили они крылья невода.
По Волге поднимались и днем и ночью, врожденным чутьем отыскивали суводи и закрутени, жались больше к обрубистым берегам, где меньше хитроумных ловушек, нет речных неводов, плавных режаков…
Но и здесь рыбу поджидала смерть.
Как-то у перекатистой водоверти идущие впереди вожаки судорожно задергались, метнулись в стороны и вмиг были схвачены стальными, жалящими, словно иглы, крючьями.
К лесистым тетюшевским ярам и суводям дошли редкие белуги. Похолодало, сгустилась вода. Белуги залегли в глубокую уямь под глыбистой кручей. Долгая зима ледяным панцирем давила на глубь, скуднела вода, рыба лежала недвижно, словно снулая, неживая, в плотной шубе осклизлого слёна.
К апрельской ростепели с низов пришли весенние косяки – яровые – шустрые, сильные.
И пока перезимовавшие – озимые, выйдя на быстрины и стрежни, смывали с себя слеп, набирались сил, пришлые яровики выметали икру и покатились к низовью, гонимые верховой снеговой водой. Чуть после, закончив икромет, ушла следом и белуга со щербатой щеглой.
С тех давних времен, каждые три-четыре года, набрав икру, шла белуга к волжским верховьям. От той первой беззаботной стайки сеголеток, которая впервые скатывалась в море, осталась она одна. На икромет ходили небольшими косячками в пять – десять голов. Достигали верхов как и всегда немногие. Белуге с рваной скулой везло. Вначале оттого что шла следом за вожаками и гибли чаще всего они. Потом сама, став вожаком, привычными перекатами и приярами с остерегом вела косячок к заветным икрометным каменистым нерестилищам.
Затем исчезли морские невода. И уж совсем стали забывать о снастях крючковых. Но тут вошло в жизнь белуги что-то новое и непостижимое. Далеко до Тетюшей, сразу же за Вольскими перекатами, навалилось на Волгу что-то грохочущее, сокрушающее. С шумом срывались откуда-то сверху мощные потоки воды, суводили, отбрасывали косяки назад. И сколь ни бились рыбы, пройти не смогли, зазимовали в новых необжитых яминах.
А в последнюю, нынешнюю зиму, пришлось залечь уже намного ниже, в Светлоярских омутах, даже не дойдя до створа Ахтубы. Грохочущая лавина воды подошла совсем близко к морю, заслонила далекое и такое нужное верховье…
И если в прежние годы осетровые поднимались до устья Самары, Шоши, ловились в Шексне у Череповца, под Костромой, то отныне их путь по Волге заканчивался у плотины Волгоградской гидростанции.
Заиленные омуты были до отказа набиты белугами, осетрами и севрюгами. Местами они лежали в три-четыре слоя. Белуга с рассеченной скулой упокоилась рано. В конце зимы, оказавшись наполовину замытой илом, с трудом выбралась из тины.
Икромет как обычно начали яровики. Илистое дно огромной котловины, куда с верхового плеса еле доходили водоверти, было покрыто слоем наскоро выметанной икры – слипшейся, гибнущей…
Бесчисленные стайки стерлядей, густеры-белоглазки, язей и разной мелкоты вроде гольцов и пескарей роились тут же, в приглуби, поедая и свежие, и уже с проклюнувшимися глазами икринки.
Белуга донашивала в себе икру. Время от времени устремлялась навстречу снеговой подсвежке, но обессиленная в неравной борьбе с могучими водотоками, скатывалась в кишащую рыбой котловину.
Однажды, передохнув, она пошла правым отлогим краем речной впадины. Сверху до нее доносились стрекотанье гребных винтов, гул работающих двигателей и содроганье могучих корпусов. Белуга, хоронясь от опасности, ушла вглубь и продолжала двигаться против воды.