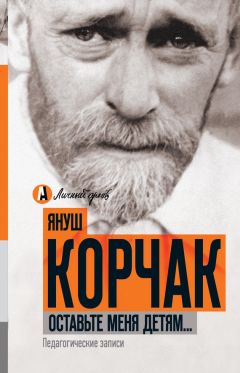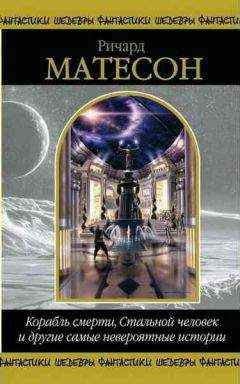Юрий Герт - Солнце и кошка
А могло бы, могло все обернуться иначе!.. Как?.. Этого я не знал. Только вместо нашей комнаты с оранжевым абажуром, вместо стола с нарезанным тонкими ломтиками балыком, вместо самовара, в котором уже угасает, покрывается легкими хлопьями пепла угольный жар,— мне представлялись яркие, облитые солнцем площади, веселые толпы народа, песни и флаги... Мне представлялись тачанки в красных лентах, мчащиеся по степным дорогам, вольным, как мир... Пулеметная пальба, и, вырываясь из облака пыли, Чапаев на коне, за плечами кипит и вьется черная бурка... И где-то здесь, среди пальбы, грохота, молний и песен — моя бабушка. Она бы смогла, смогла!
Отчего же этого не случилось?
Мне было не у кого спросить.
Я любил своего деда, человека тихого, доброго, простого, покорного бабушке и жизни; я чувствовал — спрашивать его про это неловко.
Бабушка?.. Она сама вспоминала о прошлом нехотя, как бы через силу, и глаза ее при этом уходили в себя, проваливались куда-то внутрь. Ее словно точила какая-то мысль, досада, мои расспросы, я заранее ощущал, причинили бы ей боль.
И я не расспрашивал, не касался ее тайны.
Но когда, случалось, мы так вот сидели за столом, и на нем в розетках и вазочках томно отсвечивали восхитительные, сказочные бабушкины ренклоды, которые она. варила три дня, не досыпая ночей, по каким-то неведомым никому рецептам; когда завороженные великим ее уменьем наши гости умно и тонко хвалили ее талант, такой щедрый и редкостный, и говорили: «Рахиль?.. О, ей так все удается!»— казалось, мне становился понятен ее чуть горчащий, как бы слегка надтреснутый смех. Мы переглядывались. И, словно думая об одном и том же, понимали друг друга...
ПАМЯТЬ
Его знала вся Ливадия... Да что Ливадия — все ялтинское побережье! Санаторники, отдыхающие, местные жители и, конечно же, мы, дети. Но не только я — никто, пожалуй, не знал, как его зовут.
Впрочем, это нам не мешало.
Едва он появлялся на берегу, как размякшие от полуденного зноя, распластанные по пляжу тела оживали, купальщики, вздымая и обгоняя облака брызг, выскакивали из воды, женщины, торопливо прихорашиваясь, щелкали сумочками, в ладонях у них суматошно прыгали зеркальные зайцы.
— Здравствуй, Сердце! — неслось отовсюду.
— Иди к нам!
— Посиди с нами!
И мы, мелюзга, подвывая от восторга, через кого-то перескакивая, натыкаясь на кого-то, сокрушая по дороге хрупкие шатры самодельных тентов, обжигая ступни о раскаленную гальку, мчались к нему через весь пляж.
Приветствуя нас, он приподнимал свою плоскую кепку с пуговкой посредине и помахивал ею над потной глянцевой плешью, окруженной реденьким серебристым пушком. Он опускался на гладкий камень, с хрустом сгибая длинные сухие ноги в растоптанных, белых от пыли сандалиях. У него не хватало зубов, улыбка на его лице выглядела одновременно по-стариковски лукавой и младенчески ясной, безмятежной, даже немного глуповатой.
Зимой он редко выходил из фотографии, которая стояла среди кипарисов, между курзалом и нашим Черным двором. Дощатый домик был выкрашен в темно-зеленую краску, такой красят обычно скамейки, заборы, садовые ограды. Здесь он жил, как в скворечне, на антресолях, под самой крышей. В кипарисовой рощице густели сырые зеленые сумерки, за окошком слышался надсадный кашель, по стеклу проплывала смутная серая тень...
Потом начиналось лето. Голубое небо, как вынутый из чехла зонтик, вдруг распахивалось над Ливадией. Тогда он выкарабкивался из своего пасмурного домика, где пролежал, прокашлял всю хмурую, слякотную крымскую зиму.
Его видно было издалека: длинная, тощая фигура, как бы надломленная где-то посредине, плыла над пляжем, раскачиваясь и дрожа в перегретом воздухе. Он шел между голых, открытых солнцу тел, в своей неизменной долгополой «толстовке», в узких, дудочкой, брюках, в сандалиях на босых, широких, крепких ступнях. Деревянная, неимоверной длины тренога, вдавливаясь в узкое плечо, сливалась с его телом. На ней, закутанный в черную накидку, громоздился таинственный ящик. Иногда накидка разматывалась, конец повисал в воздухе и колыхался в такт шагам — казалось, это пиратский флаг, в складках которого прячутся череп и кости...
Хотя, понятно, излюбленных нами пиратов напоминал он меньше всего. В разные годы он казался мне поочередно похожим на папу Карло, на Паганеля, на Дон-Кихота, но не того, который с копьем наперевес врезается в стадо свиней, а того, который перед смертью, просветленный и смягчившийся, именует себя Алонсо Кихана Добрый.
А его называли — Сердце. Была такая песенка: «Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить...» Тогда вообще вошли в моду утесовские песенки, утесовский джаз, повсюду — на открытых эстрадах, в переполненных кинозалах, на приятельской вечеринке с заводным (электрические появились много позже) патефоном, на танцплощадках, в парках — повсюду вздыхал низкий, сипловатый, неотразимо завораживающий утесовский баритон. Тут было все: и «Раскинулось море широко», и «Молодые капитаны поведут наш караван», и «Маркиза», ее судорожно веселая, захлебывающаяся скороговорка: «Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда...» «Маркизу» пело и танцевало все побережье — расхватывая пластинки, ломая каблуки в насмешливо-горячечном ритме, пришептывая неотвязное «все хорош-ш-ше, вс-се хорош-ше...»
И песенка, с которой не расставался Сердце, тоже была утесовской, из «Веселых ребят»,— про то, «как много девушек хороших» и «как много ласковых имен»,— такая, простенькая, незамысловатая, улыбчивая, такая вся, представлялось мне, курносенькая... И радость, и грусть, и все, все было в этой песенке, так исполнял ее Утесов! Но глядя на Сердце, не верилось, что песенка эта — новая, недавняя, казалось, что он пел ее раньше, задолго до Утесова, всегда пел, так и состарился с нею.
Пел?.. Он шел по пляжу, щурился от солнца, от блеска воды, усмехался тихонько и гудел себе под нос, без слов, не разжимая губ. Или подмурлыкивал, так, между прочим, когда расставлял свою высоченную треногу, с трудом вгоняя ее железные наконечники в слежавшийся галечник. Или мычал, задвигая кассету в рамку, готовясь надавить на резиновую грушу, свисающую на тоненьком упругом хоботке. Но случалось, лицо его хмурилось, глаза из-под торчащих козырьками лохматых бровей смотрели недовольным, хозяйским взглядом — на море, пылавшее вдоль горизонта слепящей полосой, на белый, будто приклеенный к далеким волнам пароход, на обрывистую скалу, закрывающую вид на ялтинскую бухту. Что-то надо было изменить, переставить — пароход, скалу, ялтинский порт... Но все оставалось на месте, а сам Сердце забирался снова под черную накидку, что-то подкручивал, поправлял...
Он не говорил: «улыбайтесь», он попросту напевал, бормотал свою песенку, вскинув голову и выпятив острый треугольный кадык: «Спасибо, сердце, что ты умеешь та-а-ак...— он нажимал на грушу, в аппарате отрывисто щелкало — готово!— ...та-а-ак любить!..»
Мы ревновали его к санаторным пляжам со всем их недосягаемым, огороженным заборами великолепием — плетеными шезлонгами, топчанами, фонтанчиками для питья и просторными навесами. Он слишком подолгу там задерживался, так нам казалось. Но что делать? Мы снисходительно дарили его на это время курортникам: пускай, возвращаясь в свои серенькие Тамбовы и Курски, они увезут с собой еще одну память о нашем Крыме, помимо шкатулки из раскрашенных ракушек и выброшенных прибоем камешков! Зато когда он появлялся на «диком» пляже — он был дома, был наш, мы ни с кем не хотели его делить!
Он подсаживался к нам на подстилку. Он вынимал из просторного кармана толстовки скомканный платок, чтобы утереть пот, струящийся по шее, коричневой от солнца, по лицу, в затверделых, как хлебная корка, морщинах. Какие-то хрипы слышались в его костистой груди, какое-то посвистыванье и клокотанье... Но нам бывало не до того.
Он не успевал вытащить платок — мы уже копошились, уже переставляли колышки, подбирая повыше, чтоб накрыть его тенью от простыни, заменявшей нам навес. Он разворачивал газету, в которой лежал его завтрак — слипшиеся бутерброды, на колени к нему складывали в горку темные, спелые-переспелые помидоры, веточки сладчайшего, в лиловом тумане, черного винограда, яйца в мятой потресканной скорлупе. Защищаясь, он выбрасывал вперед ладони с отчаянно растопыренными пальцами — и, смеясь, покачивал головой, уступая нашему натиску.
Мы о чем-то болтали, пока он ел,— не помню о чем, да это и не важно, потому что о чем бы мы ни болтали, пока он тонким складным ножичком—точь-в-точь как у моего деда — резал на ломтики мясистые, сочные помидоры, пока жевал их беззубыми деснами, мы ждали, ждали... Нет, наша любовь не была бескорыстной... И он знал, чего мы ждем.
По безмолвному уговору с нашими родителями он не мог угощать нас, не мог потрепать, погладить по голове своей рукой. Взамен этого он разрешал нам потрогать, погладить свой одноглазый, циклопический, начиненный тайнами ящик. Он расставлял треножник — и мы кидались помочь, укрепляли, обкладывали каждую ножку камнями. Наше усердие, наша льстивая преданность не имела границ — мы сволокли бы и сложили к этим деревянным ногам камни со всего пляжа! Сердце выбирал самый крупный и плоский. Мы вставали на него, а те, кому не хватало роста, еще и тянулись на цыпочках. Черная накидка — пиратский флаг — накрывала нас с головой.