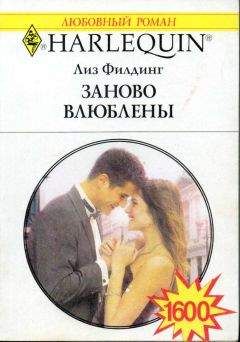Славомир Мрожек - Валтасар
Все годы, живя за границей, я помалкивал насчет Польши. Только вежливо отвечал на вопросы, которые мне там задавали. Впрочем, вопросы были редкими и корректными. Из этого я заключаю, что за границей сведения о Польше невелики и неразумно потчевать ими чужестранцев против их воли.
После возвращения мне как-то пришлось рассказывать о заморских странах случайно встреченному земляку. Не люблю рассказывать, предпочитаю слушать. Считаю, что, рассказывая, не узнаю ничего, чего бы я не знал, а слушая — могу узнать многое. Но земляк проявлял любопытство и имел на это право. Иначе он не узнал бы о себе ничего нового. Однако я опускал лишние подробности, зная его чрезмерную чувствительность к «заграничной» тематике. Невозможно было предвидеть, что его уязвит.
Предчувствовал я проблемы и посложнее. После возвращения от меня ждали высказываний по «принципиальным вопросам». Принципиальные вопросы касались того, о чем большинство поляков писали и говорили, не имея, по сути, понятия, о чем идет речь. Болтали, однако, беспрестанно, потому что отсутствие своего мнения считается отсутствием культуры, хороших манер и вообще чем-то недемократичным.
Вскоре после возвращения я подписал с «Газетой выборчей» договор на еженедельные очерки. Потом они стали появляться каждые две недели. Соглашение было прервано три года назад из-за моей болезни. Но в течение пяти с лишним лет я писал очерки и сейчас вижу, что результат получился удручающий. В них обнаруживается вся неловкость и нелепость ситуации. Впечатление хорошей мины при плохой игре. Прошло без малого пять лет, пока я заново приспособился к Польше.
Очерки 1997–1999 годов собраны в книгу. Они не слишком удачны, и только некоторые я признал бы, если бы написал их за границей. Беспомощность в польской тематике и необходимость вживаться в чуждую перспективу преследуют меня как автора и по прошествии семи лет.
Принципиальные вопросы… Плохо уже помню, чего от меня ждали. Польша меняется на глазах. Ясно, тогда я был в моде — чего только от меня не ждали. Например — сегодня уже могу это открыть, и сегодня в это невозможно поверить, — чтобы я стал директором одного из двух крупнейших в Польше театров. Или чтобы принял в дар — как доказательство народной благодарности — квартиру от города Кракова и поселился в ней. Это не смешно, я вижу в этом нечто серьезное — доказательство трогательной наивности поляков. В порыве сердечности и гостеприимства они готовы многим пожертвовать для приезжего, а потом горько сожалеть. И неважно, оказался ли я достоин такой чести или нет. В скобках замечу, что обычные авантюристы могут на это рассчитывать. В одном я уверен: за семь лет жизни в Польше я ни разу не столкнулся с проявлением ненависти или хотя бы зависти. А ведь к чему-то подобному тоже был готов. И за это я полякам искренне благодарен.
Наконец, последний и самый важный повод к возвращению. Моя последняя пьеса «Преподобные» написана в 1996 году, в Мексике. Пришла пора писать новую. Осенью 1998 года я поехал в Неборов. И тут стало ясно, что проблема серьезнее, чем мне казалось. Если то, что писал Ян Блонский, когда я жил за границей, верно, то дело обстояло так.
К моменту отъезда на Запад мною было уже написано семь пьес, но только одна из них могла так-сяк служить основой для «полнометражного» спектакля. Остальные, с точки зрения репертуара, мелочовка — самостоятельные одноактные пьесы. Настоящего успеха я добился лишь за границей, написав вещи даже слишком объемные — то есть в трех солидных актах, — которые можно было ставить в любом театре. И Ян Блонский высказал интересную мысль: будто я способен выразить суть лишь в ее, так сказать, «сверхъестественном» — но не «обыденном» — виде. То есть я должен подняться до уровня абсурда, гротеска, странности и причудливости. Только если увижу что-то необычное и таинственное — могу свободно раскрывать тему.
Что-то в этом было. Правда, позже я доказал, что способен убедительно изобразить действительность и в ее натуральном виде — например, в форме киносценария, — но памятные слова Яна Блонского, несмотря на минувшие тридцать три года, вдруг ожили и заставили задуматься: неужели, вернувшись в Польшу, я снова наткнулся на ту же проблему, которая преследовала меня еще до отъезда?
Новую пьесу — «Гости Авраама» — я завершил в мае 1999 года. Она до сих пор не поставлена ни в одном театре — ни в Польше, ни за границей. Правда, ее показали на Польском телевидении, но любой драматург знает, что это не одно и то же. Такую неудачу я воспринял как поражение, и в этом нет ничего удивительного: впервые за все время театры прошли мимо моей пьесы — театры всех стран. Не каждый автор так заканчивает. Некоторые, умирая, знают, что в эту самую минуту на сцене играют его пьесу. Я, правда, к счастью, еще не умер.
Есть два объяснения. Заранее предупреждаю: оба кажутся мне сомнительными.
Первое объяснение: мое время прошло. Это было бы естественно — если бы я не писал пьесы в течение пятидесяти лет. Первые признаки уходящего времени я заметил несколько лет назад, еще в Мексике. Заметил, живя уединенно, не соприкасаясь ни с какой средой, — но, не обращая внимания на окружение, продолжал писать. Только во время поездок в Европу, на своих премьерах, я окончательно убедился: время уходит. Тем не менее продолжал жить в Мексике, чтобы оставаться в блаженном неведении, и только внезапное возвращение в Польшу открыло мне глаза.
Однако сказать о ком-то: «его время прошло», — трудно. Еще труднее, когда речь идет о драматурге, особенно таком, как я. Слишком много сплелось различных обстоятельств. Можно только сказать, что, в общем-то, время, несомненно, прошло, и обосновать: «поскольку все проходит».
Второе объяснение более тонкое. Живя в Польше, я подсознательно подчинялся принципу, который открыл Ян Блонский. Когда уехал — горизонт мой изрядно расширился и я начал постигать разнообразие мира. Я мог изображать действительность и в абсурдном ракурсе, и в ее «натуральном виде». Но когда прочно вернулся в Польшу — попал в ту же ловушку.
Эта теория не учитывает особенности личности: я — это я, а нахожусь я в Польше или в другой стране — не столь важно.
С другой стороны, эта теория подчеркивает принципиальное отличие современной Польши от стран Запада. Польша была «Польской Народной Республикой», а что это такое, ясно из воспоминаний людей, знающих это, как и я, по собственному опыту. Польше тогда были присущи черты, типичные для российской империи и разительно отличающиеся от тех, которыми она обладает сегодня как член Европейского Союза. Поэтому я могу сказать: «Польша была ограниченна». Могу даже рискнуть и выдвинуть тезис: «Польша ограниченна, независимо от строя».
Сразу замечу: выходит, в Польше мне будто бы не хватало дыхания — словно то, что я очень хорошо знаю, лишало меня желания писать.
Вернемся в наше время, о котором и написана эта книга. Но прежде, чем я продолжу рассказ, позвольте мне углубиться в прошлое.
Краков моего детства
Поначалу Краков не казался мне маленьким. Пока я не умел ходить, он был для меня целым миром. Правда, ходить я научился еще в Боженчине и Поронине, где мой отец служил начальником почты. В Краков мы приехали, когда мне минуло три года. Поселились в Прокочиме. Следует помнить, что было это более семидесяти лет назад. Чтобы представить себе все наглядно, достаточно посмотреть фильм, действие которого происходит в конце 20-х годов. Забавная одежда, диковинная мебель, архитектура — сплошь, можно сказать, памятники старины; все это производит странное впечатление. До чего же мало тогда было в Кракове жителей! По сравнению с нынешним днем — пусто. От этого возникало ощущение глухой провинции, хотя провинциального в городе было ничуть не больше, чем сейчас.
Краков — первый город в моей жизни. Разница между городом и деревней чувствовалась тогда гораздо сильней, чем в наши дни. Ощущать под ногами мостовую или асфальт, а не проселочную дорогу — уже одно это стало для меня незабываемым открытием. Добавлю, что во времена моего детства в деревне еще не было электричества.
В Прокочиме домики были почти все одноэтажные и разбросаны довольно далеко друг от друга. Грунтовая дорога весной и осенью превращалась в болото. Но в пятнадцати минутах езды по железной дороге начинался Краков, а в нем — кипучая жизнь, движение и заманчивые приключения. Я был слишком мал и не стремился в Краков. Однако присутствие города ощущалось даже в нашем предместье.
Я не знал, что такое «скука». Подозреваю, что знание это приходит к ребенку, когда он вступает в школьный возраст или чуть позже. В Прокочиме меня интересовало все: и детский сад, к которому я быстро привык, и парк, куда мы ходили с матерью. К тому времени я остался у нее один: брат умер (он был старше меня на два года, я едва его помню), а сестра еще не родилась.