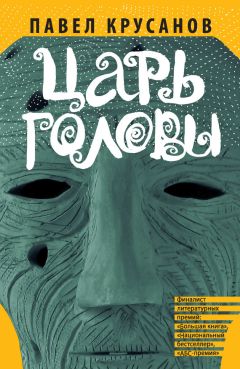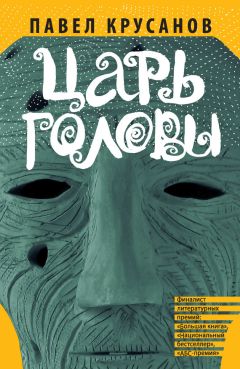Владимир Березин - Кормление старого кота. Рассказы
Может, это был полузабытый вкус яблок, из той сытой, давней поры.
Мальчик не плакал, лежа на верхней полке рядом с недоехавшим переселенцем. Мертвый переселенец лежал неподвижно, и его нечего было бояться. Мальчик заплакал только тогда, когда, споткнувшись о рельсы, понял, что не успеет догнать свой набирающий ход эшелон.
Оказалось, что паровоз подали под водокачку.
И мальчик больше не плакал.
Поезд шел по Сибири мимо разбитых вокзалов и матерей с неживыми детьми на руках.
Мальчик был спокоен и тогда, когда на берегу далекого Енисея брат, чтобы прокормиться, продал его в сыновья к богатому чалдону. Перезимовав в юрте, мальчик убежал.
Вернувшись домой, он пошел по злобной комсомольской дорожке, и вкус яблок оставил его навсегда.
Воспоминания моего деда кончаются в поезде.
Эта онтологическая деталь моего семейства – пути сообщения создали его.
Детство матери было более отчетливо, как тепло ее руки, ее дыхание. Она поселилась – глагол, придающий ребенку большую, чем необходимо, самостоятельность, – в этой квартире в сорок шестом, когда дом, еще недостроенный, лишь готовился к приему номенклатурных рабочих номерного завода.
Сначала маленькая комната, затем, после болезни бабушки, рокировка, в ходе которой моя мать услышала утренний плач соседей и каменный радиоголос траурного сообщения на старом месте, в маленькой и ближней к кухне комнате, но, дойдя до
Трубной мимо грузовиков и улиц, усеянных шапками и галошами, вернулась уже в большую, освобожденную прежними жильцами, комнату.
От жильцов осталось лишь воспоминание да мое позднее удивление, как их многочисленная семья умещалась между коридором и балконом, оставляя, впрочем, свою домработницу спать в ванной, на положенных поперек досках.
Спала домработница в одежде, без белья, тяжело дыша в сени газовой колонки, висевшей на стене и похожей в темноте на самоубийцу.
Время протекало по трубам коммунальной квартиры, оно отменило раздельное обучение, школьные гимнастерки, подворотнички и фуражки, канули в небытие кители старшеклассников, но остался дом, люстра…
Да газовая колонка, кажется, осталась…
Осталась дорога к магазинам, по которой, цепляя ногу за ногу, я шел, намочив в потной ладони рублевую бумажку.
Если была зима, в рукава на длинной резинке мне продевали варежки. Так же, на веревочке, но уже на шее, висел большой ключ, похожий на отвертку. Сверху водружалась моя гордость и предмет зависти всего двора, от страшного полуподвального подъезда домоуправления до гаражей в другом его конце, – летный шлем с меховой подстежкой, черный и блестящий.
Все было подвешено на веревочках, все двигалось, подобно маятнику, возвращаясь от зимы к зиме, от одного дачного сезона к другому.
Пока до лета было далеко, приходилось привыкать к магазинным яблокам.
В апреле, чуть только сходил снег, мы отправлялись на дачу – маленький участок с домиком, который грунтовые воды медленно оборачивали вокруг гигантской березы. Если бы не эта береза, то тщедушное строение давно уплыло бы за пределы забора.
Дачные яблоки нарезались дольками и, заполнив собой трехлитровые банки, перемещались в погреб. К осени погреб заполнялся водой, и я, подросший мальчик в джинсах с изображением автомобильчика на толстой попке – паллиатив настоящего фирменного знака, принимал участие в ужении – яблочной ловле.
Из-за шкафа доставался сачок на длинной палке, в полу открывался люк, за которым, близко к лицу, стояла черная подземная вода.
Незадолго до моего совершеннолетия погреб начал самовольно разрастаться и чуть было не поглотил не только очередной яблочный урожай, но и сам крохотный домик в придачу.
Погреб засыпали, но мне чудилась заветная банка, лежащая на глубине, забытая и обойденная хитроумным сачком.
Там, в песке, недостижимые, остались яблоки того года.
Дед пытался воплотить на своем участке идеал его юности – показательный огород-парк, наполненный гипсовыми пионерами и байдарочницами. Он сажал картошку, и в детстве я часами блуждал среди ботвы.
Там жарким летом мне достался свой Траур, скорбное лицо деда и протяжная музыка из радиоприемника – хоронили космонавтов.
Существовали тогда особые запахи.
Дед мой появлялся на изгибе дачной дороги с двумя сумками. Одна пахла продуктами – колбасой, молоком, свежим хлебом.
Из другой доносился запах типографской краски, свежего партийного слова, “Правды” и “Известий”.
Запах яблонь встречал эти запахи у калитки и, вплетаясь в них, существовал согласно.
Осенью, когда близился поздний отъезд в страну магазинов, мы разбирали сарайчик и навешивали сборные щиты, из которых он состоял, на окна нашего домика.
Это было ритуальным действом, защитой от хулиганов, воров и прочей зимней напасти, и происходило оно под тягучий звук далекого самолета, звук, который означал конец лета.
Я боялся этого звука.
Потом мне уже самому приходилось заезжать на дачу, чтобы привести в город бабушкины простыни и захватить из ящиков в доме яблоки. Тогда, снова надев на себя станковый рюкзак, я выходил рано утром из дома и ехал в метро, изучая прохожих.
Ящики стояли на остекленной веранде, заполняя диванчик, старый и ветхий, по которому, перебирая ножками, училась ходить моя мать и на котором спал потом я, утыкаясь головой в стену, а ногами в дачный холодильник, злобно урчащий и хрюкающий по ночам.
Он урчал и хрюкал так, что казалось, будто он переваривает положенные в него продукты.
Потом из ящиков я доставал матовую огромную антоновку и мелкую желтую китайку.
Стукнула калитка.
Вдоль стены моего дома, шурша листвой и цепляясь за сухой виноград, прошел сторож. Отдуваясь, он плюхнулся на крыльцо.
Наконец, выпустив несколько раз воздух, посучив ногами, чтобы залезть в брючный карман за папиросами, он спросил: “Давно?..”
Могло это означать что угодно. Ну хотя бы, давно ли я тут сижу, давно ли приехал или, наоборот, давно ли не был.
Раз я жил здесь зимой, и был январь, но холодные созвездия прятались не в яме, а в белых ночных тучах.
Большая луна светила сквозь решетчатые ставни, а я засыпал у гаснущей печки на огромной дохе (потом появилась кровать, старая, неподъемная, с шишечками и резьбой – в дальнем углу комнаты), рядом со звенящим приемником. Каждую ночь передо мной вставал вопрос, оставить ли вьюшку открытой и выстудить комнату или пропрыгать по холодному полу несколько шагов и, исполнив короткий танец-бой с трубой и вьюшкой, снова нырнуть в постель.
Я исправно выполнял второе, но, кажется, в последнюю ночь забыл и утром точно знал, когда температура перевалила через ноль, – по вставшим электронным часам, снятым с руки.
В мир той зимы, утреннего станционного магазина, чтения стихов на безлюдной дороге и ночного приемника однажды ворвался скрип валенок на дорожке. Это был он, наш сторож.
– Один? – заинтересованно спросил он.
– Один, – вежливо ответил я.
Он долго и внимательно смотрел на меня, закладывая нижнюю губу под верхнюю и проводя внутри рта какие-то странные операции языком.
– Мороз? – наконец жалобно спросил он.
– Это да, – опять вежливо ответил я.
Он переступил, осмотрел внимательно свой валенок, потом им оставленный отпечаток на снегу, потом снова валенок, старый, весь какой-то мохнатый и покрытый пухом. Осмотрев его, сторож снова разлепил губной рулет:
– Снега-то, снега… Много снега. Холодно. Мороз… А я вам яблоньку окопал, – вдруг неожиданно сообщил он. – Померзнет иначе яблонька-то…
И он снова уставился вниз и снова спросил:
– Один?
– Один, – радостно сообщил я.
Сторож развернулся и исчез в утренней белизне.
Много позже я догадался, /что/ ему было нужно, и было, было это у меня, но вот беда – не хватило сообразительности, а то как знать, какие бы истории я узнал в тот день.
Впоследствии я постиг, что утренний сторож разительно отличается от вечернего и с заходом солнца его, сторожа, лаконизм пропадает.
Прошло несколько лет, и вот он присел рядом на крыльцо и уже успел обвонять меня сплющенными папиросами.
– Молод ты и не знаешь жизни, – наконец сказал он.
И тут же, утешая, прибавил:
– И никто не знает. Не горюй.
– Ладно, – согласился я.
– Не горюй. Все, кто думает много, – того… – И он постучал почему-то по сапогу. – Вот работал я на заводе – был у нас один инженер. Умный. – Помолчал и добавил: “Очень”. – Так тоже: тронулся. Сядет у себя в загородке и начнет себя гладить.
Гладит, отряхивает, каких-то тараканов с пиджака снимает – а там и нет ничего. Я как-то зашел к нему, так и обомлел: инженер наш, видать, все с себя счистил, снял башмак и ну его вытряхать под столом. Я над ним стою, а он под столом сидит, сопит так сердито и башмаком – шлеп, шлеп…
Потом дружок его пришел, слава Богу, положил ему руку на спину и просто так говорит: “Не надо, Саша…”