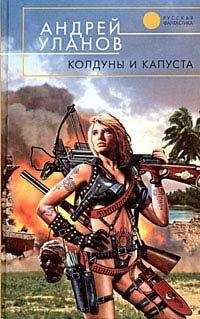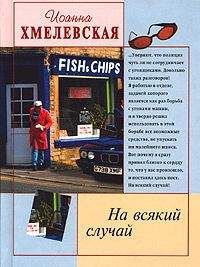Зиновий Зиник - Эмиграция как литературный прием
Эмиграция есть личная революция, даже если она по характеру массовая. И после Великой Октябрьской — эмиграция из Советского Союза была бескровной революцией в России. Еще один, так сказать, Февраль. Революция, потому что это — вторая попытка неприятия режима в массовых масштабах. И, как во времена всякой революции, это неприятие режима мотивировалось по-разному: одни хотели печатать то, что не давали печатать до революции, другие отправлялись в эмиграцию за хорошей жизнью, третьим нужна была религиозная свобода, четвертым национальная независимость. И, как во всякой революции, люди говорят на классические темы: тоска по прошлому, вина за соучастие в этом прошлом и за жертвы, принесенные на алтарь революции, строительство новой жизни и ее временные трудности, проблема двух поколений до и после революции-эмиграции и т. д. Я писатель третьей русской революции. До революции-эмиграции я был никем.
3
Мне пришлось начинать с нуля, с состояния мгновенной смерти, сопутствующего всякому перевороту. Я помню, с каким бледным ужасом я раскрыл чемодан, набитый моими московскими архивами. Эти слова было больно и стыдно читать, как больно и стыдно находиться рядом с мертвым телом близкого человека. Этот труп в чемодане, как в гробу, был явно не от мира сего, и, как всякий присутствующий рядом с мертвым, я не был уверен: может быть, неподвижное существо рядом с тобой как раз и живет (в другом, правда, мире), а ты уже умер? Это и есть эмигрантское ощущение немоты, смерти как ощущения потусторонности по отношению к себе прошлому. Это состояние кажется мгновенным, но порой в эмиграции на это мгновение уходит вся жизнь. Чтобы преодолеть это страшное ощущение потусторонности по отношению к самому себе, я стал писать письма.
Писем я писал много. Адресат по ту сторону железного занавеса не имел понятия о том мире, в котором очутился отправитель. Описывая новые лица, новые встречи, новые законы и новую географию, мне поневоле приходилось говорить на языке, который не был замкнут на сугубо личном жаргоне, синкретическом словаре, которым я жил в Москве. Приходилось выдумывать новые слова. С другой стороны, словарь моих личных отношений продолжал жить в моей памяти, и, сталкиваясь с новыми лицами и новой географией, я, естественно, по обычным законам человеческой памяти, замечал лишь то, о чем думал еще в Москве. Увиденное таким образом начинало двоиться: на новое, замеченное прежним взглядом, и прошлое, оформлявшееся в новом словаре. Как советская власть, всякий эмигрант бессознательно или сознательно старается переписать свое прошлое, подгоняя его к новой революционной действительности.
Герой моего романа — это всегда человек, который вынужден излагать детали своего интимного прошлого под нажимом эпических обстоятельств: как под следствием, как это бывает в революцию, как это бывает в результате отъезда. И в этом смысле для меня настоящий роман — это попытка сказать то, что больше всего на свете обязан был скрывать. Только растеряв все регалии московского бонвивана и шизоида, только под нажимом чуждого и великого вечного города цивилизации, где он очутился вроде бы по собственной воле, мой герой способен вспомнить о себе то, что всегда старался забыть, вспомнить, пересматривая перепутанные архивы прошлого.
Казалось бы, тот же результат трагической (в смысле темы неизбежности) разделенности мира героя на «тут» и «там» может быть достигнут традиционными романтическими образами — тюрьмы, необитаемого острова, готического замка с призраками. И в каком-то смысле и тюрьма, и необитаемый остров, и общение с призраками на том свете вполне пригодны как метафоры эмигрантского существования, бытия чужака и отщепенца в другой стране. Набоков, литературный маэстро русской эмиграции, добавил к этому дорожному саквояжу метафор еще и «камеру обскура», еще и слепоту героя, которого водит за нос продажная девка Европа. Из постели его нимфетки, потерянного рая, всего один шаг до утерянной России его детства. Но это была набоковская эмиграция. И отличие героя нашего времени — в добровольности шага, ведущего к отчуждению, приводящего в тюрьму, на необитаемый остров, к обманной слепоте, в страну призраков. Это добровольное кораблекрушение и самоубийство.
За хитроумно скрытыми расчетами с прошлым, настоящим и будущим у графа Монте-Кристо, или Робинзона Крузо, или Гумберта Гумберта скрывается некая фатальная сила, заговор, удар судьбы, который довел их до нынешнего «эмигрантского» состояния. У этих героев, как и у Набокова, их прошлое, их страна ушли из-под ног. И они попали как мыши в клетку на отравленную приманку — за их перипетиями скрывается зловещая рука Крысолова. Герои моего поколения, может быть впервые в истории России, поставили себя в положение эмигранта-добровольца. Насколько этот свободный выбор можно назвать «свободным» — вопрос философский. Мой литературный герой[3] всегда уверен, что его отъезд может быть приравнен к пересечению Ла-Манша, и вдруг выясняется, что обратно на Континент, как на Британских островах называют Европу, уже не попадешь, и надо вести жизнь Робинзона Крузо или графа Монте-Кристо. Железный занавес оказался не перед лицом, а за спиной, но от этого не перестал быть железным.
Этот момент свободной воли создает странный новый мотив в классической теме разрыва и разлуки. Теме, которая сопровождает всякий уход на тот свет, необитаемый остров, в эмиграцию. Это — мотив соучастия. Соучастия в совершившемся и вины за случившееся. Мир, скажем, набоковских героев заранее предрешен, рассчитан и замкнут, как система зеркал, откуда нельзя выбраться, как из мира восточной сказки, где каждый шаг героя продиктован западнями, расставленными на пути героя зловредным визирем, пославшим его на погибель в поисках живой воды. В моих героях нет обреченности: они осматривают новый мир, куда они сами себя послали, как новую квартиру, и сравнивают ее с предыдущим жильем. Если бы человек, очутившийся в ином мире, смог обвинить в этом кого-то еще, его прошлое было бы статичным, застывшим, как в сказке о спящей царевне, и он глядел бы на своих прошлых врагов и друзей остраненно, как будто в телескоп, объясняя возникшее расстояние от бывшего дома катастрофой.
Мой герой завязан в своем прошлом, потому что вышел из него по собственной воле. Уход же из мира под названием «Москва» всегда разрушает, рвет хрупкую паутину личных отношений, приковывающих железными цепями каждого друг к другу и всех к колесу истории. Каждый уход приводит к слезам, арестам, перемещению в должности и во взглядах на религию. Это прошлое, в случае добровольного ухода, тянется за каждым твоим шагом, и каждая смерть и скандал в оставленной жизни воспринимаются на свой счет. Прошлое становится горячими зыбучими песками, где с каждым твоим шагом увязаешь, проваливаешься — потому это прошлое все время перестраивается в уме, переписывается каждым шагом в настоящем, оно жжет твои босые пятки беглого арестанта, оно — дело, которое не закрыто и за тобой тянется.
В отличие от набоковских персонажей, герои моей эмиграции постоянно оправдываются за свой уход, за свои поступки в прошлом, ищут оправдание своему счастью в настоящем. Отьезд, ведь, — это еще и отрицание всякого морального долга в отношении к остающимся, которые все так же поставлены под угрозу ареста, ссылки и смерти. Но точно такую же вину испытывает человек на свободе там, за железным занавесом, по отношению к тем, кто уже находится за решеткой. Таким образом, эмиграция лишь усугубляет, доводит до маниакальности ощущение конкретной вины, причастности, соучастия. То, что было конкретными спорами в Москве, у эмигрантского героя перерастает в ощущение вины по отношению ко всей России — или вся Россия оказывается виноватой в отношении героя.
4
Не паранойя ли это? Или вся моя жизнь в СССР была параноидальна, и надо было уехать, чтобы увидеть это и понять? Лишь в эмиграции пышным цветом расцветают те тайные мысли о всемирном заговоре и конспирации, которые мы лелеяли в своем сердце — ловя шпионов и врагов народа, вслушиваясь в мотор воронка за окном или прислушиваясь к разложению гнилого Запада за семью морями. Вместе с этим ощущением всеобщего заговора и конспирации вокруг рождается и чувство жертвенности, страсть к подвигу — во имя идеи, ради заговора, против конспирации. Чем более чуждой кажется новая страна нашего пребывания, тем с большей страстью мы ощущаем собственную избранность — рожденных в России. Все уникальней и уникальней кажется нам и сама оставленная страна, уже не страна Советов, а страдающая Россия, божественной кажется нам ее миссия. Россия становится страной мессианской. Убедившись же в том, что мир не живет одними вечными российскими вопросами, мы начинаем ностальгировать по прежнему параноидальному состоянию, по жизни, идеологизированной и политизированной в каждом ее проявлении. Как герой тургеневских «Записок охотника», Чертопханов, мы готовы убить вновь обретенного коня только потому, что подозреваем: а вдруг он не тот, не прежний, тем более тот был серый в яблоках и этот серый в яблоках, а год прошел, и масть должна была поменяться.