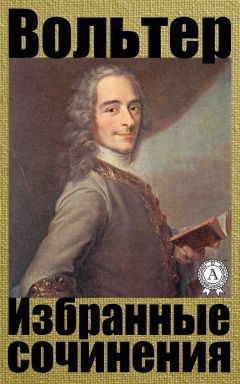Гай Эндор - Любовь и Ненависть
Все в этом человеке, даже состояние здоровья, постоянно вызывало глубокий интерес. Кстати, Вольтер сам поддерживал его своими письмами к друзьям.
— Я родился мертвым, — любил повторять он. Вольтер рассказывал, что повитуха сочла его мертворожденным и отодвинула в сторону, как нечто ненужное.
Знаменитая фраза Вольтера: «Я прерываю свою предсмертную агонию» — у всех всегда вызывала улыбку. Она была ужасно забавной, так как ему на самом деле приходилось, с трудом преодолевая себя, подниматься со своего «смертного ложа», чтобы написать еще одно, последнее, письмо, еще одну, последнюю, поэму, пьесу, книгу…
Его многочисленные враги любили позлословить:
— Кто же наконец похоронит этого человека, ведь он давным-давно умер!
Но друзья любили его еще больше за постоянную готовность умереть в любой момент. В конце концов, разве это не судьба, выпавшая человеку?
— Если я долго прожил, — объяснял Вольтер, — то только потому, что родился инвалидом.
И миллионы людей, понимающие, как трудна и хрупка человеческая жизнь, благодарили его за умение посмеяться над общей трагедией и с радостью рукоплескали ему, когда он отзывался о себе как о человеке, который «одной ногой стоит в могиле, а второй брыкается».
Какая буря эмоций охватывала Жан-Жака при виде этого великого человека, как сладко волновалось его сердце! Какой соблазн — броситься перед ним на колени! Но это же глупость! Какая нужда Вольтеру поднимать его на ноги, чтобы представить своим друзьям? Кто он такой? Что он до сих пор сделал, чтобы заслужить хотя бы минутку его внимания?
Прежде нужно показать, на что он способен, и только тогда его коленопреклонение перед Вольтером приобретет смысл. К тому же не так просто упасть на колени перед человеком, который постоянно окружен толпой поклонников и искателей его благосклонности. Среди них — этот надоедливый, вызывающий раздражение Никола Тьерио, друг детства Вольтера. Его прозвали «громогласной трубой» — судя по всему, его единственным занятием в этой жизни было прославление великого мыслителя.
Много лет назад он был простым стряпчим в той юридической конторе, в которой работал, а скорее бездельничал Вольтер. Отец упрямо отказывал молодому Вольтеру в желании посвятить свою жизнь писательской карьере. Упрямый молодой человек имел такое влияние на своего приятеля Тьерио, что они оба расстались с юриспруденцией: один это сделал из-за желания писать, второй — чтобы прославлять что есть мочи сочинителя.
Тьерио был буквально привязан к Вольтеру, исполнял любые его поручения, работал его курьером. Когда Вольтер покидал Париж, его замещал Тьерио. Он ревниво следил за тем, чтобы во время отсутствия хозяина о нем не забывали в столице. Тьерио целыми днями шатался по парижским кварталам и то и дело в разных компаниях повторял последнюю изысканную остроту Вольтера. Он вынимал из кармана последнее письмо Вольтера, зачитывал что-нибудь вслух, сообщал о его литературных планах. Такая тактика открывала перед Тьерио все двери Парижа: он сидел за самыми обильными столами самых знатных домов, на светских раутах встречался с сильными мира сего. И если даже оперативная «Меркюр де Франс» публиковала свеженькое письмо Вольтера, сливки столичного общества уже знали его содержание от Тьерио. Он зачитывал эти письма размеренным гнусавым голосом, за что и получил кличку Нищенствующий Монах.
Таким был Тьерио, «альтер эго» Вольтера. Он частенько занимал деньги у великого француза, забывая вернуть долг. Он прикарманивал его гонорары, что вызывало со стороны Вольтера лишь недоумение. Он даже ухитрялся красть рукописи Вольтера и продавать их богачам, с нетерпением ждавшим появления его новых произведений. А Вольтер ничего не предпринимал против литературного вора. Тьерио жил интересами Вольтера, дышал его воздухом. Однако, когда у него возникали трения с властями, что бывало довольно часто, он напрочь забывал о своем покровителе. Он был способен и на предательство. Но Вольтер всегда прощал его.
Вокруг Вольтера крутилось немало скользких типов, к примеру Муссино, управляющий его делами с 1727 по 1741 год. В любую минуту он мог принудить Вольтера поставить подпись под каким-нибудь «важным» документом, вырвать у него согласие приобрести права на проценты от поставок алжирского хлеба или на выдачу кому-то денег.
Не лучше был и протеже Вольтера — Линан, Бекуляр д'Арно или Жан Франсуа Мармонтель (он все еще щеголял в фиолетовой сутане аббата, хотя и не носил парика). А атласные наряды и кружева, которые он вскоре надел по примеру Вольтера, заставили его навсегда распрощаться с карьерой священника.
Вольтера, само собой, окружали актрисы, стремившиеся получить роль в его новой пьесе. И даже привратники, старавшиеся всучить ему приглашение в ту или иную театральную ложу, на званый обед после спектакля.
Как жадно взирал Жан-Жак на эту обожаемую всеми фигуру! Вольтер излучал безукоризненную элегантность и изысканность — от завитков его прекрасного парика (самого дорогого по тем временам, сделанного из естественных серых конских волос) до его обтянутых ярко-красными чулками ног. Он был человеком редкого самообладания. Его добродушная улыбка, готовая в любой момент сорваться с губ тончайшая острота, его фонтанирующий талант и широкая эрудиция вызывали у многих зависть, граничившую с отчаянием.
Однажды его спросили, не чувствует ли он себя робким в присутствии сильных мира сего. Вольтер ответил: «Пока нет. Но у меня одна-единственная душа, и я непременно почувствую себя смущенным и косноязычным в присутствии человека, у которого таковых две».
Разве Руссо не поразила глубокая пропасть, разделявшая, и возможно навсегда, их двоих? Ну кто он такой? Без гроша в кармане, человек, который ведет отчаянную борьбу за свое место в обществе и который в данный момент живет с грубой, неотесанной женщиной по имени Тереза Левассер, прачкой и официанткой. Ей оставалось совсем немного до карьеры проститутки. Это невежественное существо так и не удосужилось научиться читать и писать, она не могла даже перечислить двенадцать месяцев года. И рядом, совсем рядом, он видел Вольтера, у которого в это время продолжался известный всем страстный любовный роман с богатой, блистательной красавицей и ученой женщиной — мадам дю Шатле. Вся Франция знала об этих двух философах — мужчине и женщине, — о том, как они превратили ее старинный замок в подобие физико-химической лаборатории и театра, о том, как прекрасно они там жили, посвящая свою повседневную жизнь научным экспериментам, учебе и чтению (маркиза была занята своим трудом о математике Ньютона[21], а Вольтер писал сочинение о нравственности и привычках человечества, которое, вероятно, станет его очередным шедевром). Вечера, как правило, они посвящали домашним спектаклям. Вольтер не только сам принимал в них участие, но и охотно писал новые пьесы.
Ну а кто такой Руссо по сравнению с ним? Никто. Ничто, вызывающее жалость.
И то письмо, которое он составлял, сидя у себя на чердаке, было, по сути дела, призывом, несущимся из темных глубин к светлым высотам. Как же его писать, если не с максимальной аккуратностью? Ведь сколько зависело от его успеха!
Как зло он кричал: «Потише!», когда его крошка Тереза стучала спицами для вязания. И это ограниченное, покорное создание притихало, словно испуганная мышь, даже не подозревая, что она тоже вовлечена в эту борьбу и что любимый ею человек готов пожертвовать как своей жизнью, так и ее, Терезы (что и произошло на самом деле!), словно речь шла о пожертвовании пешкой ради целой партии. Не зря же его первый издатель произнесет эту фразу: «Написано с болезненным тщанием».
Вольтер привык писать все в одном экземпляре, ничего не переписывая. Он писал, по собственному выражению, «currento calamo» — как Бог на душу положит, то есть так, как скатывалось с пера. Потом отдавал рукопись своим секретарям, которые снимали с нее копии и отправляли на почту, а один экземпляр обязательно оставляли в личном архиве Вольтера. Такая практика была не по вкусу Руссо. Это право Вольтера, если принять во внимание его легкий, искрометный талант к сочинительству, — он в любой момент мог прервать повествование и перейти на стихи. Он проделывал такое и когда был ребенком, и когда приближался к своему восьмидесятилетию. Как-то, отправляя герцогине Шуазель первую пару шелковых чулок со стрелками — изделие своего нового предприятия, — он приложил к нему письмо с дивными стихами, которые начинались так: «Мадам, я падаю у Ваших ног, чтобы узреть на Вас дизайн прекрасных стрелок…»
Особенно Руссо огорчал тот факт, что он никак не мог достичь совершенства во французском. Вольтер родился и вырос в Париже и говорил на чистейшем французском, говорил с такой предельной ясностью и точностью оттенков, что слушать его было наслаждением. А в речи Руссо все еще сохранились эти упрямо не желавшие его покидать женевские словечки и выражения. Совсем недавно ему удалось издать небольшой памфлет (к несчастью, его тираж так и не был отпечатан до конца), и тут же рецензент, причем один-единственный, набросился на автора за его «варварский французский язык». Все это и многое другое ему приходилось постоянно удерживать в голове, что, несомненно, и привело к тем первым трагическим строчкам письма Руссо к Вольтеру: «Месье, вот уже целых пятнадцать лет я, стараясь сделать себя достойным Вашего внимания…» Разве не чувствуется в них внутренняя боль? Крик о помощи?