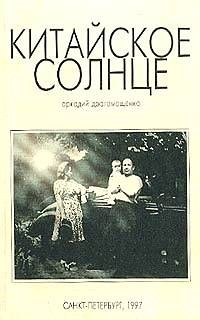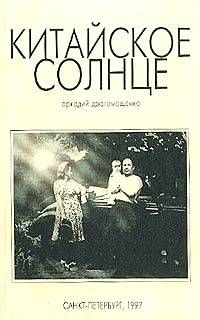Аркадий Драгомощенко - Фосфор
Вопрос (любой вопрос без исключения) о поэзии неминуемо влечет за собой нескончаемое количество всевозможных вопросов, цепи которых сплетаются в ткань некоего бесконечного пространственного вопрошания, которое в свой черед предстает действием странного странствия, блужданием, постоянно отделяющим от иллюзорной возможности хотя бы одного, частичного ответа на какой-либо из них, а потому я говорю о пространстве, поскольку ни время их кажущегося разрешения в предположительных таксономиях, ни время их мерцающего в замещениях и перетекании бытия несущественно, или же - мера его становится чистейшей абстракцией, когда речь идет о скорости, доводящей мир до одновременности, в которой движение не предполагает никакой цели, выползая из себя, объемля себя постоянством в необязательных пределах гравитации и зерен пространства.
Поэтому, когда я возвращался, воспоминания о ветре, к которому я был столь близок, о всепроникающей скорости, пеленавшей в неподвижность, помогали проходить сквозь игольное ушко сна, и помогали не раз и не два.
И дело обстояло не столько в том, что необходимо было избавиться от неких мыслей или же от забот, монотонно разворачивающих свои веера, стоит лишь открыть глаза, - исписанные постоянно удаляющимися от понимания, однако безусловно отчетливыми внешне предписаниями, сколько в том, чтобы превозмочь ничем не заполняемую пустоту, когда ни воспоминаний, ни легких в очертаниях, живущих где-то между прошлым и будущим, образов, ни бесконечного нисхождения к судорожному вздрагиванию, отделяющегося от тебя тела, - только тлеющие цветы неуспокоенного под веками зрения, вышедшего из берегов вещей из привычных, создающих их пределов. Но превозмочь или превзойти не означает "наполнить", напротив. Что означает для меня мой день рождения? Зачатие? Письмо в данный момент или то, что в этот же миг возникает встреча моей мысли с тем, что ей не подвластно и что меж тем есть ее начало, - но моя ли эта мысль, мне ли довлеет вопрос? Какие последствия предполагают сочетания тех или иных чисел и месяцев? Значит ли это к тому же, что я обречен на встречи лишь только с одними, но никак не с другими, или что-то иное? Предполагает ли, что при встрече я не смогу тебя понять? История разворачивается стремительно.
А потому, как многие вещи уже не имеют значения, - во всяком случае, влияние их на настоящее сведено к минимуму, - не преувеличивая, могу сказать, например, что ливень, обрушившийся сорок лет тому назад на сад, ливень и молния, расколовшая ослепительно-белым зубом ствол липы до самой земли, остались магниевым безвозвратным мгновением в том времени. Вот почему, к сожалению, мне очень трудно представить, что имеется в виду, когда говорится: природа. События принимали довольно серьезный оборот. В стране происходила революция. Можно было уточнить: произошла. Нет, ты не прав или не так меня понял. Такого не было. Но разве те, кто ринулся за пределы, не порука тому, что все это случилось? Нет, у тебя на то нет оснований. В то утро тебя разбудили вовсе не танки, но солнце. Я лежала подле тебя и смотрела на то, как неспокойно ты дышишь, как подрагивают твои веки, и морщины набегают на лоб. Говорят, что ты слишком много пьешь. Ночь была неожиданно душной. Ты спал совершнно голым, и когда я положила руку тебе на грудь, ты хрипло вскрикнул, но не проснулся. Ты был прав, мужская телесность для женщины совсем не то, что описывается мужчинами, и, конечно же, не то, что (опять из того, что описывается мужчинами) женское тело - для мужчины. Откуда эта печаль? Вряд ли правомерно будет это называть печалью. Мы свободны, словно камень в поле зрения Сфено. Несколько реплик. Положи на место вилку. Шаги на лестнице. Не шали. Что мы будем делать после обеда? Падают яблоки. Придет отец и решим. Окна. Уходите ли сегодня вы вечером в гости? Отделение от себя происходит впервые тогда, когда постепенно реализуется идея самоубийства. Становится буквальной реальностью. То есть, когда ты можешь вообразить или когда ты уже знаешь о существовании возможности преступить пределы телесности, своего, заключающего в себе собственно неукоснительные как бы законы. И тогда ты виден себе без изъяна: странное существо, плодоносящее боль, ты удаляешься, но сколь сильна жалость вот к этому, тому, что, невзирая на свою слабость, тем не менее, содержит в себе несет - эту идею. И с этой поры камень не камень, колодец не колодец, небо не небо. Скорее всего, некогда разлинованный для тебя мир уже убит светло и радостно в случившемся однажды самоубийстве. Ты намеренно вызываешь у самого себя эту жалость или же, напротив, она и есть начало отдаления от "себя"? Не знаю. Помоги-ка лучше вымыть посуду. Белить стены. Я ненавижу грязную посуду. Передайте мне хлеб. Умершие тоже уходят все дальше по коридорам снов. И бывает довольно затруднительно разобраться в их лицах: кто они, откуда, - чьи воспоминания являются твоим достоянием, и что осталось им? Или от них.
И ветер, который беззвучно подступал к изголовью - лишь он один мог отсечь ненадолго... не тягостное, впрочем, но нескончаемо сужающееся отсутствие пространства, времени, сна, где терялся смысл даже элементарного сопротивления чему бы то ни было и утрачивался контроль над смыслами как таковыми. Повествование от лица женщины. Природа иного желания? Угадана? Есть ли всегда? Предложение обретает себя в уклонении от описания. Мысль возможно уточнить: да, лист, не имеющий сторон. Если любишь меня (светло-зеленая влага утреннего солнца, каштаны, достигающие подоконника, можно пропасть в них или возвратиться известной тропою сентиментального путешествия с такой же легкостью, с какой исчезновение исчезает в себе)... И помедлив, с заметным усилием: "если я люблю тебя...да, - следовательно, мы не должны расставаться". В одной из последних глав становится ясно, что приведенный выше монолог является вымышленным вдвойне. Между главами. Приближение птиц и зеленая влага, раскрывающая белому код его применения. И мы не расставались. Прошло более четверти века. Увлечение мелкими вещами. Иной раз воспоминание касается этого неподвижного порождения воображения, призрака, ставшего воспоминанием и, таким образом, ставшего реальностью, уходящей в безответное безмолвие каких-то отчетливых стен, очертаний, последовательности действий, уже не пропускающих в свое вращение. Состоять из вещей. За затылком. Написание стихотворения. Ей нет еще и пятнадцати, когда родители выдают ее замуж. Дальше. Но Фредерико Карафа де Сан Лючидо мертв. Вместе с тем, донна Мария дает достаточно оснований, чтобы судить о ее плодовитости. Гонимый безумием Тассо (музыкальный ряд стерт) перемещается от одного двора к другому. Музыканты замечательны. Вдобавок ко всему Фабрицио Филомарино, воистину ангельская лютня. А Рокко Родио? Чем его репутация ниже? Да, как теоретика. И композитора. Вот, они снова кружат, снижаются... барабанные перепонки вот-вот лопнут. Страннее всех ведет себя Доменико Монтелла. Он же пишет Сципиону Церете: "право, меня настораживает, - впрочем, я не настаиваю на слове "настораживает", - эта скрытая, однако достаточно откровенная для пытливого слуха, тяга к хроматизму. Мне мнится в этом некое затаенное противоборство иного представления связующей гармонии". Дата не проставлена. И началом их отношений были глаза, излучавшие послание, коих знаки не нуждались в истолковании. Затем уста произнесли то, что руки, послушные их воле, запечатлели в письмах, коими они обменялись. Но кому ведомо начало их гибели, чья нить вела сквозь кратчайшее, но от того не менее сладостное блаженство - и не им же, коим промысл уготовил столь странное испытание в ужасающей смерти, подозревать о ее истоках. Сады Дона Гарсиа Толедо. Лаура Скала: нет, все так нерезко, нечетко. Недавно. Затем возникает черед дяди, пораженного ее красотой в самое сердце и в тайном сокрушении переживающего свои низкие чувства по отношению к племяннику.
Любой вопрос о поэзии включает ее вопрошание о самой себе. И это есть ее основная чистейшая стратегия: действие включения вопрошания в горизонты, которыми она же и является. Постольку, поскольку поэзия состоит не из слов, в ней нет слов, ее дискурс сравним разве что со сквозняком, со сквозным пролетом каждого слова сквозь каждое. Высказывание (то есть, то, что улавливается и оседает в структурах знания, и что в итоге дает возможность о ней говорить даже сейчас) образует лишь карту направлений, подобно "образу", медленно выгорающему на сетчатке логики. И который воображение в силу своей, той или иной, предрасположенности успевает наделить значимостью. Перфорация памяти. Но что не существенно для сознания, подобно росе выступающего на коре вещей и испаряющегося вместе с вещами. Скорость чего сравнима только со смехом, и что не означает вовсе каких-то конвульсий, мышечных спазм и характерного звука. Смех равен ребенку, вглядывающемуся в огонь и смутно осознающему: а) что огонь не отбрасывает тени, б) что отвернись он в сторону, и смутное, как гул, беспокойство вновь исполнит его, поскольку вместе с пламенем он утрачивает (и все чаще и чаще) в себе его сквозящую пустоту, возвращаясь в "рай детства", в преддверие зеркала, к языку, "состоящему из слов", к себе, лелеющему странствие-самоубийство, обреченному глядеть из себя, - Паноптикон мяса, костей, сухожилий, связанных в узел "восприятия" - на коже которого и в мозгу постепенно проявляется мушиный рой "я", этих безродных Эриний, чьи иглы день за днем будут пришивать его рассудок к слову-вещи-форме-смыслу, превращая неуклонно его в размалеванное яйцо куклы, хранящей в себе нескончаемое число таких же, со всей безупречностью повторяющих друг друга: такова бесконечность или Красота, "возвышающая дух" не в пример величественной поре пристальной дикости, когда, рассеянный пылью, идущей со всех сторон, уходящей во все стороны (и что тогда "направления" высказывания?), парил,