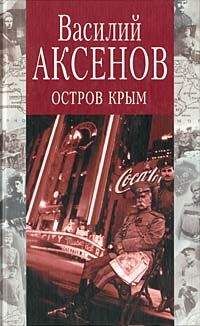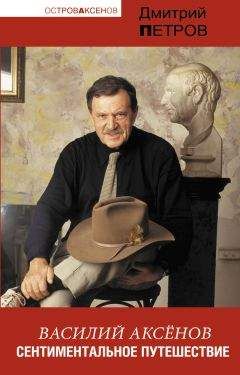Василий Аксенов - Право на остров
Она действительно застыла, покусывая ноготь мизинца и вроде бы думая о чем-то и как бы глядя на доску. Иногда она поднимала глаза на Лео Бара и улыбалась. В промельках луны поблескивали зубы и белки глаз. Словно негритянка. Какое странное кокетство, думал он, я давно уже с такими делами не встречался. Откуда взялась здесь шахматная доска? Ясно, что это пляжный атрибут, что летом здесь так играют в шахматы, но почему она, эта доска, и эти фигуры, крупные, словно домашние животные, появились именно в моей жизни? Почему, куда я ни сунусь, тут же возникает вздор? Мадам Флоранс сделала ход, гот самый, необходимый для развития четырехходовой комбинации, известной под названием «киндер-мат».
— Вам мат, мадам Флоранс…
— Вы шутите, месье Альфред?
Глаза в глаза, сливающаяся улыбка — немало, должно быть, за пленкой этой ночи всего стоит: очарования и дрязги, шампанское, аборты, неглупые соображения, гормональные пилюли, независимость, унижения, возьми меня с собой…
— Да нет же, в самом деле, это невозможно, это какой-то средиземноморский обман, вот кто настоящий корсар, обманщик и бандит, вы, месье Альфред, давайте меняться, теперь вы — черными!
Они пошли вокруг доски, но оба в одну сторону и столкнулись, потеря равновесия, смех, протянутые руки, прыжок — вполне грациозный со стороны мадам Флоранс, крабообразное, но не лишенное стремительности движение со стороны «месье Альфреда». Теперь я хожу первая! Реванш! Реванш! е2 — е4… Вы отвечаете, не подумав. Дело в том, что я даже не помню, сколько раз я встречал в своей жизни эту позицию. И вы уже отвыкли от неожиданностей? Любая неожиданность — это штамп. А между тем они вас ждут. Кто ждет? Неожиданности! Сомневаюсь! Вы обнаглели от победы! Мадам Флоранс, вам снова мат и снова в четыре хода. Месье Альфред, вы гад, вы хам, вы просто последняя наглая сволочь и убирайтесь к черту, мне противно на вас смотреть!
Она упала в песок возле доски и разрыдалась. Рука ее билась как рыба, сметая дурацкие пластмассовые фигуры. Лео Бар, пожимая плечами с застывшей туповатой улыбкой — он отлично знал эту свою мину, эдакая «недоделанность», и даже любил ее, потому что она отпугивала людей, — пошел прочь, сделал несколько шагов по плотному песку, а потом сел на кучу разящих гнилью водорослей, обхватил руками колени и стал глядеть в темную муть залива. Сцилла и Харибда, плюясь и шипя, удалялись и растворялись в ночи; не меньшие призраки смерти, чем подбитые танки Синая.
Тоска охватила его. Неточное выражение. Тоска заполнила его. И это не совсем верно. Тоска, настоящая тоска, была, должно быть, еще в стороне, быть может, даже удалялась сейчас вместе с этими траулерами, что были похожи в тумане на больные зубы или на скалы блаженных мифов. Проклятая двойная, если не тройная, метафора! Большая тоска растекалась по горизонту, обволакивая всю Корсику, скрывая и Сардинию, но малые ее сестры были здесь с ним, одна охватывала, а другая — заполняла: ни сжаться, ни лопнуть не было сил.
— Вы тоже плачете, бедный Леопольд Бар, — произнесла издалека мадам Флоранс. — Бедный вы мой, разве можно так играть в шахматы с женщинами?
Какая родная душа, подумалось ему. Мы не расстанемся теперь никогда.
В машине она поправила свой незамысловатый мэйк-ап и надела боливийскую шляпу.
— Вы все ищете себе дочь, Лео Бар, а между тем вам нужна мама…
Вместе со шляпой вернулись и фрейдистские познания. Скорей бы довезти ее до города, высадить и забыть. В ночной гонке на лунном шоссе светились два ее слабых колена. Зачем нам вся женщина, если есть два ее колена?
В холле гостиницы «Феш», несмотря на поздний час, двое мужчин играли в карты. Один был давешний негр или, вернее, прошлогодний негр, может быть, даже позапрошлогодний негр. Вторым был молодой человек в кожаной курточке с прозрачными испуганными глазами. Кто, черт побери, был с прозрачными испуганными глазами — молодой человек или курточка? Не выбраться из литературы… Игроки уставились на Лео Бара, когда он вошел злой и даже от злости не лишенный скульптурности. Затем оба встали, и пройти мимо, как бы не заметив, не было уже никакой возможности.
— Месье Бар, извините, я жду вас весь день, — сказал молодой человек и протянул руку. — Журналист Болинари. Огюст Болинари.
Лео Бар, задохнувшись от неожиданности, не нашел ничего лучшего, как взять протянутую для рукопожатия руку своей левой рукой за ее запястье.
— Позвольте… однако… поздний час…
Черная рука тоже направилась к нему, и с ней-то уже пришлось соединиться ладонь в ладонь.
— Позвольте представить вам американского писателя Уилла Барни. Это наш старый друг, я имею в виду, друг нашего острова. Он приезжает сюда всегда одновременно с вами.
— Кто-то есть еще, кажется, третий? — спросил Лео Бар, с надеждой глядя на маленькие черные ушки, то появляющиеся нал столом, то пропадающие.
— Да-да, — угодливым смехом залился Огюст Болинари. — Позвольте представить, Чарльз Дарвин.
На руках у него появилось удивительное создание — собачонка-пикинез черной шерсти с голубыми, как у хозяина, но нагловатыми глазами. Розовый язычок, остренькие зубки.
— Вот она — вершина эволюции, — глубокомысленно сказал Лео Бар.
Местный журналист был счастлив: писательский контакт начался. Он хотел бы, чтобы месье Бар не сомневался, чтобы между ними не было никакой двусмысленности, он клянется честью — никаких интервью, просто он хотел бы пригласить и вас. Бар, и вас. Барни, на ужин… здесь по соседству чудный ресторан, свежайшие скампи, гамбусы, крабы, устрицы, все прямо из моря, причал в ста метрах от ресторана, все прямо с траулеров, из залива Проприано… вы говорите — Сцилла и Харибда?., благодарю вас, Бар, еще один подарок… два таких подарка за пять минут контакта… нет-нет, этого не переоценить… еще раз заверяю, никаких интервью, просто как старый поклонник вашего творчества. Бар, и вашего, Барни, я хотел бы проявить провинциальное островное гостеприимство…
Леопольд Бар тут заметил зеркало и всю группу лиц, отраженную в нем: высокого американца в твидовом пиджаке и свитере под горло, но босого, Чарльза Дарвина, сосущего палец хозяина, самого Огюста Болинари, маленького, стройненького, затянутого в джинсы и курточку, чуть-чуть похожего, конечно, на Наполеона, но одержимого скромностью, и, наконец, себя, беловато-розового, со слегка отвисшим подбородком, полуоткрытым ртом и диким хохлом на голове — кепка-то, оказывается, где-то потеряна. Скопище людей и животных на одном квадратном метре земли, перенаселенное пространство. Шаг в сторону — это уже поиск гармонии.
— Простите, господа, с благодарностью отклоняю приглашение.
— Я вижу, вы нас не любите, — сказал Уилл Барни.
— ПризнаюСь. Не очень-то люблю.
— А чем мы хуже вас?
— Простите, я не так выразился. Я хотел сказать, что не очень-то люблю нас, литераторов. Понимаете? Не вас лично, мистер Барни, не вас, конечно же, месье Болинари, не Дарвина, конечно…
Американец переступал босыми ногами, сжимал и разжимал кисти рук. Судя по возрасту, он участвовал во Второй войне или, по крайней мере, в Корейской, во всяком случае, наверняка служил в армии, а значит, для него: не подрался — не погулял.
— Я имею в виду расу, — сказал он.
— А-а, — сказал Бар.
— Что? — резко спросил Барни.
— Господа! — воскликнул Болинари.
— Вавк! — высказался Дарвин.
— Расу вашу тоже не очень люблю, — сказал Бар. — Как, впрочем, и все другие расы. Вообще я не очень-то все это люблю, господа, поймите меня, не очень, не очень…
Местный журналист стоял как завороженный. Негр покачивался. Л. Б. повернулся и пошел прочь, не прощаясь и не извиняясь, хватит церемоний, нужно ринуться под одеяло, схватить себя за какой-нибудь отросток, повыть немного о потере очередной твердыни, о гибели острова Корсика и забыть хоть на несколько часов Леопольда Бара. Однако вместо того, чтобы повернуть направо к лифту, он повернул налево и вышел под сочащийся дождь на Авеню Феш, быстро прошел мимо своего арендованного «Рено», который спал в ряду других спящих автошек, нашел на тротуаре свою слегка уже загаженную кепку, натянул ее на голову, свернул на какую-то узкую, в ступеньках, улочку, где светились лишь фонари так называемых «частных клубов», то есть борделей, вышел на залитый ночным недреманным светом Кур Наполеон, по которому прогуливались, оберегая покой сепаратистов, несколько автоматчиков центрального правительства, и зашагал куда-то, моля судьбу о ветре, о разрыве туч, хотя бы о нескольких звездочках в небе, хотя бы о малейших признаках ушедшей жизни.
Огюст Болинари ехал посередине улицы в открытой двухместной машине — явно не нищий парень — и показывал какую-то газету. Это вам, месье Бар! Это вам! По пятам за Баром вышагивал негр, кулаки перекатывались в карманах, желваки на щеках.
— Вы думаете, у вас у одного биологические проблемы?! — иногда выкрикивал он вслед. — Вы думаете, у вас у одного зубы выпадают, волосы, прочее? Откуда у вас такое высокомерие, Бар? Вы думаете, вы один такой высокомерный?