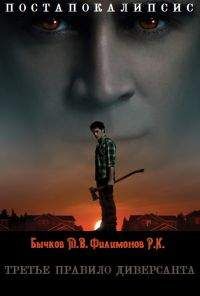Йен Бенкс - Улица отчаяния
Давай-ка попробуем выстроить все это в нечто вроде последовательности, введем все это в контекст, давай? Приведем все это в порядок.
Меня звать УЭЙРД [6], меня звать Дэн, или Дэнни, или Дэниел, меня звать Фрэнк Экс, Джеральд Хлазго, Джеймс Хей. Мне тридцать один год, я преждевременно постарел, но так и остался малахольным маюсеньким майсиком, я блестящий неудачник и тусклая звезда, я мог бы при желании купить «Боинг-747» за наличные и не имею ни одной пары целых носков. Я совершил уйму ошибок, которые обернулись к выгоде, и уйму разумных поступков, о которых буду жалеть до гробовой доски. Мои друзья все уже либо померли, либо наелись мной по это самое место, либо брезгуют мной, и я, положив руку на сердце, даже в чем-то их понимаю; я нечаянно невинен и отчаянно виноват.
Так что заходите, заезжайте, забегайте, входите, садитесь и заткните пасть, успокойтесь и слушайте… поддержите меня (эй, ребята, закатим-ка представление прямо здесь!)… поддержите меня в этом путешествии в прошлое по оживленной улице, именуемой… (вы сами догадались).
Глава 2
«Застывшее золото»: меня сразу затошнило от этого названия, но я ведь прямо лопался от самоуверенности и ни секунды не сомневался, что заставлю их его поменять.
А вот и не вышло.
Дождливый ноябрьский вторник, Пейсли, 1973 год. Мне было семнадцать, годом раньше я бросил школу и пошел работать к «Динвуди и сыновьям», в небольшую механическую мастерскую, где делали некоторые комплектующие для большого линвудского завода фирмы «Крайслер» (завод «Крайслер» был когда-то заводом «Рутс», позднее стал заводом «Талбот» и в конце концов оказался прикрытым заводом, автомобильный завод, который увял и зачах).
Большую часть рабочей смены я собирал стружку вокруг токарных станков, сочинял в уме песни и бегал в туалет. В туалете я курил, читал газеты и онанировал. Я был тогда бешено молод, фонтанировал спермой, гноем и идеями, выдавливал прыщи, дрочил, записывал мелодии, тексты и скверные стихи, испытывал на себе все известные человечеству способы борьбы с перхотью, за исключением бритья наголо, и мечтательно размышлял, на что это будет похоже — перепихнуться.
И ощущал вину. Никогда не забуду это ощущение вины, неумолчную басовую партию моей жизни. Вина стала едва ли не первым, что я отчетливо осознал. (Не знаю, что уж такое я тогда сделал — напрудил на ковер, облевал папашу, ударил кого-нибудь из сестричек, выругался, — да какая, собственно, разница. Исходный проступок не играет тут практически никакой роли, главное — это вина.) «Плохой, плохой мальчик!», «Мерзкий, нехороший мальчишка!», «Ах ты маленький паршивец!» (шлеп)… Господи, да я же впитал это как губка, это стало для меня самым определяющим переживанием, неотделимо вплелось в ткань бытия, это стало чуть ли не самой естественной вещью в мире, первейшим примером причинно-следственных связей: ты что-то там сделал — ты чувствуешь за собой вину. Совсем просто, проще некуда. Жить — это чувствовать вину и задаваться вопросом: «За что, о Господи? Что я такого наделал?»
Вина. С большой буквы «В», величайшее приношение католической веры роду человеческому и всяким его подвидам вроде психиатров… Ну, может, я малость и перебираю, я встречался со многими евреями, у них, сколько можно понять, с этим делом ничуть не легче, а ведь они будут малость подревнее, так что, может статься, это и не Церковь совсем придумала. .. но я берусь утверждать, что она развила концепцию вины глубже и шире, чем кто-либо иной, стала Японией вины, взяла чей-то там сырой, немудреный и ненадежный продукт и запустила его в массовое производство, непрерывно усовершенствуя, отстраивая, оптимизируя его работу, снабжая пожизненной гарантией.
А есть люди, с которых все как с гуся вода, они словно стряхивают с себя самое возможность какой бы то ни было вины, как только выходят из дома; я так не могу. Я с самого начала воспринимал все это слишком уж всерьез. Я веровал. Я знал, что они правы: моя мама, священник, учителя. Я был грешником, я был грязен и мерзостен, а потому не имел никакой надежды уберечься от геенны огненной малыми усилиями; лишь высококвалифицированная работа, посильная исключительно настоящим профессионалам, могла спасти меня от вечного — вполне мною заслуженного — проклятья.
Первородный грех стал для меня истинным откровением. Я наконец осознал, что можно чувствовать себя виноватым, даже и не совершив никакого конкретного проступка, что это жуткое, неотступное, изматывающее ощущение непосильной ответственности может быть отнесено на счет того, что ты попросту живешь. Четкое логическое объяснение! Ни себе хрена. Надо признаться, это было большим облегчением.
Так вот я и чувствовал себя виноватым, даже после того, как бросил школу, даже после того, как перестал ходить в церковь (какие там «даже» — особенно после того, как перестал ходить в церковь!), даже после того, как ушел из дома и начал снимать квартиру за компанию с тремя студентами, продвинутыми ребятами и атеистами. Я чувствовал себя виноватым, что бросил школу и не поступил в университет или колледж, виноватым, что не хожу в церковь, виноватым, что ушел из дома и оставил маму один на один с заботами обо всем остальном нашем семействе, я был виноват, что курю, виноват, что дрочу, виноват, что все время норовлю улизнуть в сортир и почитать газету. Я чувствовал себя виноватым, что не верю больше в концепцию вины.
Тем вечером я забежал домой повидать маму, а заодно и сестер-братьев, какие случатся под рукой. Мы жили на Теннант-роуд, в Фергюсли-парке, по тому времени это был самый опасный пригород Пейсли, скопище унылых, запущенных бетонных коробок, заселенных по преимуществу «проблемными» семьями.
Фергюсли-парк занимает треугольный участок земли, ограниченный тремя железнодорожными линиями, натуральная резервация. Наши улицы были сплошь усыпаны битым стеклом, а половина окон первого этажа заколочена фанерой и картоном. Граффити были последними скрепами, на которых кое-как еще держались стены.
В то время баллончик с аэрозольной краской представлял для местных хулиганов нечто вроде социального символа, вроде как «паркеровская» авторучка; это был знак, что ты явился и являешь угрозу обществу, что ты милостиво согласился посвятить часть своего драгоценного времени теории и практике художественного вандализма, равно как и таким стратегически более эффективным, но эстетически менее изысканным формам вредительства, как прошибание дыр в стенках, разбивание оставленных на улице машин и лихие, хотя редко дававшие положительный результат эксперименты по хирургическому исправлению внешности членов других, враждебных шаек.
Все подъезды приземистых, уродливых зданий за одну ночь заваливались пустыми бутылками из-под крепленого вина и досуха высосанными банками от лагера, словно люди выставляли всю эту алкогольную посуду вместо молочных бутылок, в тщетной надежде на утреннюю доставку.
Я не стал засиживаться у мамы, старая квартира меня угнетала. Вот, к слову, еще один повод для вины: я считал, что, если по-хорошему, любовь к маме должна была бы перевесить все мои плохие воспоминания, связанные с этим местом. В нашей квартире всегда пахло дешевой стряпней, я затрудняюсь сказать о ней что-нибудь еще. Это был запах прогоркшего сала, разогретых банок дешевого ирландского рагу, вечных консервированных бобов и обожженных ломтиков белого хлеба, запах объедков рыбы, спаянных затвердевшим жиром, запах готовых китайских блюд и кэрри, смешанный с вездесущим запахом табачного дыма. Слава еще богу, мои младшие братья и сестрички подросли и теперь их не так регулярно тошнило.
Мама завела обычную волынку насчет ходи в церковь, если уж не на службу, то хотя бы на исповедь. Я-то хотел ее расспросить, как там она и как малышня и не слышно ли чего от папаши — обо всем, за исключением единственного вопроса, о котором хотела говорить она. Так что мы не разговаривали друг с другом, мы говорили каждый о своем.
Все это меня вконец достало. Я чувствовал себя никчемным, виноватым и абсолютно не в своей тарелке, сидел, тупо кивая, пожимая плечами, качая головой (крайне редко), и чинил одну из игрушечных машинок крошки Эндрю (он заходился ревом). В квартире было сыро и холодно, но я все равно вспотел. Мама по своему обыкновению садила одну сигарету за другой, но я всегда обещал ей, что не буду курить, а потому не мог вытащить из кармана свою пачку. Так вот я и развлекался — страдал без курева, неумело пытался починить братцу игрушечную машину и думал об одном: как бы это улизнуть поприличнее.
В конце концов я улизнул. Оставил пятерку на полке около передней двери, рядом с пузырьком святой воды, и ушел, но сперва пообещал, что вернусь, когда пабы закроют, куплю готовых рыбных обедов и вернусь, и еще пообещал подумать насчет снова ходить в церковь или хотя бы просто зайти поговорить с отцом Макнотом, и вообще вести себя хорошо и не отлынивать от работы… Отчетливый запах мочи в подъезде показался почти облегчением, я словно снова начал дышать.