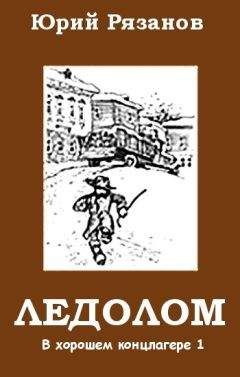Рязанов Михайлович - Наказание свободой
В этот момент Тля-Тля, наверное, представлял себя прокурором и судьёй одновременно. Он вполне мог бы стать и исполнителем приговора.
— Плавильно я говолю, музыки, сплаведливо? — обратился пахан к камере. — Цестно поделитця не хотит. Как кулак недобитый: це моё, кажу. Сам исты буду… Бенделовец! Кулацкая молда!
— Правильно говоришь! — выскочил из-под нар шелудивый изгой Петя Хмырь, пассивный педераст. — По справедливости! У-у, кулацкая морда! Шнифты выткну…
И самозванный представитель народа, растопырив большой и указательный пальцы, поднёс их к глазам хрипевшего от удушья Морячка. Зато какая улыбающаяся физиономия была у того мордоворота, что держал его за шею, — он наслаждался мучениями своей жертвы.
Приговор пахана начали исполнять немедленно после окончания обвинительной речи: в парашу полетела вся продуктовая посылка, а далее произошло такое мерзкое насилие над беззащитным человеком, которое я описать не в силах и не хочу. От ужаса я зажмурил глаза и словно окаменел.
— Отпустите, — услышал я команду пахана и открыл глаза.
Морячка освободили из цепких объятий. Он издавал какое-то звериное рычание и пытался протереть пальцами и одеждой глаза. С лица его стекала зловонная жижа.
Свора, только что совершившая это гнуснейшее издевательство, теперь продолжала глумиться над незрячим человеком, пинками отбрасывая из стороны в сторону. Как меня несколько дней назад в седьмом отделении милиционеры.
Тля-Тля вскочил с засаленной подушки и прыжками по верхним нарам, по телам, приблизился к Морячку, скинул трусы и… облил его.
— Мойся, палцяк,[10] мойся, — приговаривал он.
И никто, никто, и я в их числе, не заступился за человека. Не то, что встать, я и слово не в состоянии был произнести. Меня словно парализовало. Мною овладели ужас и страх.
— Звери! — вдруг заорал Морячок. — Вы — звери!
Вероятно, этот вопль был услышан в коридоре. Тут же забренчали ключи. От «волчка» отскочил и спрятался под нары тот, кто его закрывал. Дверь камеры отворилась, и в неё вошли надзиратели.
— В чём дело? — спросил пахана корпусной дежурный. — Что за шум, что происходит?
— Да вот, гражданин начальник, — развязно, с ухмылкой стал объяснять Пузырь и указал на Морячка. — Этот…
— Фамилия?
— Матюхин ево фамилие, — услужливо подсказал Петя из-под нижних нар.
— Короче, по неопытности мужичок сожрал всю дачку, его и прохватила дрисня, сорвался с параши мордой в говно. Мужики возмущаются, понятно… Помутузили его малость, чтобы аккуратнее был. Вот, помыться бы ему малость, гражданин начальник. Народ против, чтобы он такой засранный здеся оставался.
— На хрен он нам нужен, такой засранец, — пропищал из-под нар пассивный педерастик Петя, видимо имитируя глас народа.
Корпусной, старшина небольшого ростика, но плотный, с красной толстой шеей, в ладно пригнанной шинели, недоверчиво отнёсся к байке Пузыря. Надзиратель, брезгливо поддерживая Морячка за локоть, повёл его в уборную, она же и умывальник.
Дверь с грохотом захлопнулась. Тля-Тля уселся на свою подушку, как восточный владыка. Он вынул колоду карт, перетасовал её и произнёс ритуальные слова:
— Кто любит сладко пить и есть, того плосу наплотив сесть. Пузыль!
И замурлыкал:
А девоцьку звали ноценькой,
А мальцика звали нозицьком…
Витёк обрел явно хорошее настроение. Он продолжал петь, сдавая карты партнёру.
И повторял эти две строчки бесконечно долго, пока его вдруг опять не вспучило. На сей раз спичку зажег Пузырь. А Тля-Тля, облегчившись, произнёс так, чтобы слышали все: «На бесптицье и жопа — соловей». И камера дружно загоготала.
Морячок в нашу камеру не вернулся. О нём и не вспомнил никто. А меня ещё долго била нервная дрожь и в ушах звенел отчаянный вопль: «Звери!»
Минуло более года и судьба — другого слова не нахожу — снова свела Витьку Шкурникова и Григория Матюхина. Но уже совсем в иной обстановке. Прямо противоположной той, что царила в камере номер двадцать семь Челябинской городской тюрьмы, которая по странному совпадению располагалась по улице Сталина. А может, в этом и не было никакого совпадения?
ПОСЛЕДНИЙ БАЛВ далёкой солнечной и знойной Аргентине,
Где солнце южное сверкает, как опал,
Где в людях страсть пылает, как огонь в камине,
Ты никогда ещё в тех странах не бывал.
В огромном городе, я помню, как в тумане,
С своей прекрасною партнёршею Марго
В одном большом американском ресторане
Я танцевал прекрасное танго.
Ах, сколько счастья дать Марго мне обещала,
Вся извивалась, как гремучая змея,
В порыве страсти прижимал её к себе я
И всё мечтал: Марго моя, Марго моя!
Но нет, недолго с ней пришлось мне наслаждаться,
В кафе повадился ходить один брюнет.
Аристократ с Марго стал взглядами встречаться,
А он богат был и хорошо одет.
Я понял, что Марго им увлекаться стала,
И попросил её признаться мне во всём.
Но ничего моя Марго не отвечала.
Я, как и был, тогда остался ни при чём.
А он из Мексики, красивый сам собою,
И южным солнцем так и веет от него.
«Поверь мне, друг, пора расстаться нам с тобою!» —
Вот что сказала мне прекрасная Марго.
И мы расстались, но я мучался ужасно,
Не пил, не ел и по ночам совсем не спал.
И вот в один из вечеров прекрасных
Я попадаю на один шикарный бал.
И там среди мужчин и долларов и франков
Увидел я свою прекрасную Марго.
Я попросил её изысканно и нежно
Протанцевать со мной последнее танго.
На нас смотрели с величайшем восхищеньем,
Я муки ада в этот вечер испытал.
Блеснул кинжал, Марго к моим ногам упала…
Вот чем закончился большой шикарный бал.
Баланда с копчёной колбасой
Витька Тля-Тля томился тюремной скукой. Всё, что можно было иметь в условиях камеры, он имел: вкусное и калорийное питание — в изобилии, кучу выигранной в «кованые»[11] карты одежды и обуви, шестёрок, готовых исполнить любую его прихоть. Личную «дуньку», которой он под угрозой расправы запретил одаривать других похотливо жаждущих ласками, и неограниченную власть над обитателями узилища под номером двадцать семь. Всё у Витьки было, не хватало лишь веселья.
За пределами тюрьмы Витька нередко, если в карты обмануть не мог или украсть не удавалось (случалось и такое), существовал впроголодь, выпрашивая даже у незнакомых пожрать или доесть, но он всегда находился в весёлом настроении и был готов на любые проказы, часто жестокие и изощрённые. Он и сейчас, чувствуя свою полнейшую безнаказанность, озорничал. Например, «делал велосипеды» спящим, то есть вставлял им между пальцами ног бумажные полоски и поджигал их все разом. Вот хохоту-то было! Обмочиться можно… Правда, у «велосипедиста» после такой забавы вздувались водянистые волдыри и ходить, особенно в обуви, было мучительно больно. Но всё это — чепуха, на которую Витьке ли, пахану, обращать внимание… И не то фраера сносили от него. Терпели и молчали. Потому что им внушили, что он — блатной. А кто они? — черти безрогие, быдло, фраера. Им и положено терпеть, скотам. А ему — развлекаться. Пусть для фраера тюрьма станет местом муки, а для него, Витьки, она — дом родной. Поэтому они — гости, а он здесь — хозяин. Но что-то скудно стало последнее время с развлечениями. Правда, на прошедших общекамерных соревнованиях по пердежу Витька занял, причем честно, без подыгрываний судей и мухляжа, первое место: ему удалось, нажравшись до отвала всякой вкуснятины, конфискованной из фраерских продуктовых передач, испортить (с оглушительным звуковым сопровождением) воздух двадцать два раза подряд — счёт вёлся вслух выборными авторитетными судьями. Однако даже лавры абсолютного чемпиона его не радовали. Хотелось чего-то новенького, чего ещё не бывало. А чего именно — он толком не знал. Хотя чувствовал, что ума и изобретательности у него должно хватить на очень многое.
Лежал он на верхних нарах под форточкой, причём в сверкающих, начищенных шестёркой прохарях[12] и синем, в белую тонкую полосочку, шерстяном костюме, который именовался лепёхой. Пиджак был надет на голое тело из-за жары и духоты. Витька озирал свою вотчину — камеру с коричневыми от махорочного дыма стенами и потолком и заполненную толпой рабов, его личных рабов, топтавшихся возле краснорожего баландёра Васи, «хорошего малого», посаженного за убийство сожительницы, проститутки.
Вася, в одних трусах, сплошь татуированный в прежние ходки, взглянув в лицо подошедшему, согласно его выражению и наполнял черпак: протокольная морда — получай с верхом и погуще; мужицкая харя или того хуже — интеллигентская — жиденькую шлюмку на дне черпака. Недовольных не объявлялось. Правда, нашёлся один — деревенский парень из новеньких, ночью[13] в камеру бросили. Витька уже знал (отдел кадров у блатных прекрасно работает), что это — колхозный недоумок и повязали его за кражу приводного ремня от электромотора. Сначала этого жалкого человечка заграчили по политической статье: из-за бездействовавшего мотора могла сорваться подготовка к посевной, и олуху царя небесного наматывали диверсию. Но даже повидавшие всякое и всяких опера вынуждены были отказаться от обвинения по пятьдесят восьмой и с ухмылками передали несостоявшегося шпиона и террориста коллегам из милиции. Так вот, сей колхозный крохобор посмел, по дурости конечно, повысить голос на самого баландёра, задав ему совершенно немыслимый по наглости вопрос: почему в его миске не оказалось даже маленького кусочка мяса?