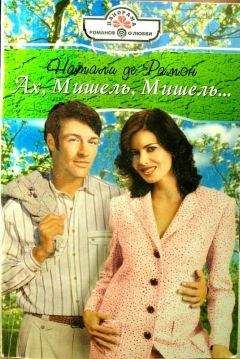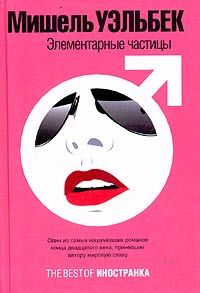Йенс Грёндаль - Молчание в октябре
Но теперь я не знал, поеду ли туда вообще. Внезапный отъезд Астрид точно парализовал меня. Я не мог думать ни о чем, кроме этого ее необъяснимого отъезда и столь же необъяснимой решимости, которую прочел в ее лице, когда она перед уходом из дому разглядывала меня, стоя в дверях спальни. Я чувствовал себя так, будто меня просвечивают рентгеном, когда стоял под ее пристальным взглядом, еще не совсем очнувшись от сна, не в силах вымолвить ни слова, в измятой пижаме. Но я не имел ни малейшего представления о том, что она видит, пронизывая меня взглядом, который, в свою очередь, невозможно было ни понять, ни объяснить.
У меня было такое чувство, будто ее взгляд на несколько секунд проник в некое потайное святилище внутри меня, о котором я и сам не подозревал. То ли оно слишком долго пребывало во тьме и забвении, то ли она в этот миг увидела во мне то о чем я сам не имел понятия.
Я не мог подобрать слов, чтобы уяснить себе этот ее взгляд. Это был взгляд за гранью выразимого словами, и уже тогда, когда она спускалась по лестнице, а я сидел, прислушиваясь к ее удалявшимся шагам, я знал, что буду постоянно возвращаться мыслями к тем мгновениям, когда мы молча стояли друг против друга на пороге комнаты, в которой спали бок о бок так много лет. Но я знал также и то, что она не станет торопиться обратно только потому, что я никуда из-за этого не поеду и буду сидеть дома, сторожа ее отсутствие. Стану ли я кружить по квартире или бродить по Манхэттену, все равно ее взгляд с порога спальни будет повсюду преследовать меня.
Я попытался сосредоточиться и вновь обратиться мыслями к Сезанну. Мои разрозненные импровизированные заметки вдруг показались мне такими выспренними и никчемными! Одна из них представляла собою наблюдение, сделанное много лет назад. Я никогда толком не знал, что мне с ним делать, потому что оно вносило отвлекающий элемент психологии в мои чисто эстетические рассуждения о художественном методе Сезанна. Заметка эта касалась одной из его картин, изображавшей купальщиц. В сущности, женщины уже не купались. Они вышли на берег из воды и стояли либо лежали в траве, нагие, пышнотелые, безмятежные в своей тяжеловесной чувственности, открытые взгляду, переходящему от их тел к окружающим их деревьям с густой листвой, так, что их кожа, кора деревьев, листья, вода и световые блики на ней создавали круговорот красок, апофеоз контрастов. А позади женщин, находящихся на переднем плане картины, можно видеть реку и далекий противоположный берег. И вот там, на том берегу, в центре картины, Сезанн поместил две едва различимые фигурки, почти незаметные глазу в туманном отдалении, — человека на берегу реки и пса, усевшегося рядом с ним. Он стоит слишком далеко для того, чтобы можно было разглядеть его лицо, но нет никакого сомнения в том, что смотрит он на противоположный берег, оказываясь лицом к лицу со зрителем, находящимся по другую сторону картины, и смотрит он, само собою, на женщин. Это их ничем не прикрытую наготу украдкой разглядывает он, стоя рядом с сидящим псом. Маленький, едва различимый человечек в глубине картины зеркально отражает взгляд зрителя, и от этого тот, стоя в тишине музейного зала, на какой-то миг ощущает едва уловимое, необъяснимое чувство стыда, как будто взгляд, который, не делая различий между женской плотью и растительностью, блуждает по многообразию красок, словно этот пассивный и бесстрастный взгляд одновременно является рукой, которая украдкой, ханжески прикасается к груди и бедрам ничего не подозревающих женщин.
Услышав телефонный звонок, я был в полной уверенности, что это Астрид. Но это была Роза, которая позвонила, чтобы осведомиться, к какому часу им приходить. Я совершенно забыл о том, что на прошлой неделе мы пригласили дочь и ее возлюбленного на обед. Она говорила, как воспитанная светская дама, которая старается приехать точно в назначенный час, а не как та капризная, нетерпеливая девчушка, которую я, по очереди с ее матерью, кормил кашей с молоком, сосисками, а иногда какими-нибудь экзотическими индонезийскими блюдами.
Я попытался написать несколько страниц о скрытном voyeur[1] Сезанна, но после каждой фразы отвлекался, думая о том, как я объясню гостям отсутствие Астрид. Впрочем, Роза меня опередила. Во время закуски она лукаво сощурила глаза и заметила, что мама сейчас, наверное, сидит у Гуниллы в шхерах и снимает с меня стружку так же усердно, как она сдирала кожуру с десяти кило раков, которые наверняка будут у них сегодня к обеду. Глаза у Розы узкие и лукавые, как у ее матери, а уголки рта изгибаются так же, как у Астрид, в чувственной, а подчас довольно злой усмешке, вот как в этот момент, когда она заулыбалась при виде моего наверняка поглупевшего от растерянности лица. Я выразил сожаление, что не приготовил к закуске раков, но она лишь усмехнулась и погладила мою щеку чуть снисходительным, успокаивающим жестом.
Гунилла — дама с лесбийскими наклонностями, детский психиатр из Стокгольма с крашеными волосами цвета меди, и я никогда не был в восторге ни от нее, ни от ее необъятной ширины платьев из набивной материи, ни от ее голистского острова в шхерах, с удобствами во дворе, с керосиновыми лампами, ни от ее янтарных бус, громадных, как булыжники, хотя она знакома с Астрид еще с тех пор, как та была замужем за отцом Симона, а скорее всего, именно поэтому. Когда Роза и ее возлюбленный ушли, я нашел номер телефона Гуниллы в Стокгольме. Возможно, Астрид и впрямь поехала к своей старой подруге, которую, как ей было известно, я не выносил. Быть может, именно поэтому она и не сказала мне, куда отправляется. Я так и не мог понять, успокаивает ли меня эта мысль, и, пожалуй, почувствовал даже облегчение, когда услышал, до какой степени изумлена Гунилла, ответившая на мой звонок. Я даже уловил легкий оттенок злорадства в ее голосе. Мне стало ясно, что она понятия не имела об отъезде Астрид, хотя они звонили друг другу по меньшей мере дважды в неделю и всякий раз болтали по часу.
Новый возлюбленный Розы был старше ее, должно быть, не меньше чем лет на пять. За обедом он был довольно молчалив. Правда, мы до этого виделись с ним всего лишь пару раз, но я не уверен, что его молчание и угрюмые, отрывистые фразы, которыми он его время от времени прерывал, объяснялись его смущением, а не глубочайшим, до бездонности, презрением. Он был одним из тех одетых во все черное молодых людей, которые избрали весьма своеобразный способ созидания и взяли на себя миссию ускорить гибель приближающейся к закату страны, помогая, как им казалось, очистить ее от всего дерьма, накопленного за годы цивилизации. Неприятие современной культуры явно превратилось у него в неприятие всего и всех, за исключением, быть может, Розы, которую он время от времени ласкал, ухватив ее шею сзади жестом, скорее похожим на попытку удушения, и одновременно буравя меня своими маленькими колючими глазками. Впрочем, насколько я сумел понять чуть позже, мой «гаспачо» мог иногда проявлять расположение и к чему-нибудь другому, помимо моей дочери. Перед тем как мы сели за стол, Роза повела его осматривать квартиру. Она даже потащила его в мой кабинет, с небрежением и раскованностью, свойственными избалованной с детства дочери, не признающей неприкосновенности территориальных границ, но он лишь презрительно фыркнул при виде серии гравюр Джакометти и открытых монографий о Сезанне на моем рабочем столе. Роза рассказывала мне, что он художник, и я толком не знал, радоваться мне или печалиться при виде ее горящих энтузиазмом глаз. Насколько я мог понять, он был выставляющимся художником. Именно он был автором одной из выставок, вызвавших некоторый интерес своими заспиртованными человеческими зародышами, вмонтированными в пластик, и стеной из видеомониторов, медленно прокручивавших порнофильм о малолетних таиландских проститутках. Помогая мне закладывать грязную посуду в моечную машину, Роза упрекнула меня в том, что я сегодня был с ним не слишком-то любезен. С обидой в голосе она сообщила мне, что он прочел мою статью о Джэксоне Поллоке и радовался возможности обсудить ее со мной. Прежде чем я успел придумать что-то в свое оправдание, зазвонил телефон, и Роза ушла к своему художнику, который между тем устроился в гостиной. Я мог слышать, как они там целовались взасос, хотя коридор, ведущий из гостиной в кухню, был достаточно длинным. Затем все звуки заглушил возбужденный поток слов, изливаемый на меня моей матерью.
Моя мать — одна из тех женщин, про которых говорят, что «ее чересчур много». Она изобильна, как тропическая растительность. Она спросила, можно ли пригласить к телефону мою восхитительную супругу. Это выражение она неизменно употребляет всякий раз, говоря об Астрид, и не устает твердить его вот уже восемнадцать лет. Я ответил, что Астрид уехала к подруге в Стокгольм. Мать поинтересовалась, «не пробежала ли между нами черная кошка». Это тоже одно из ее излюбленных выражений, и я часто спрашиваю себя, звучало ли оно столь же притворно и фальшиво в те годы, когда она была молода. Она всегда поражала меня, даже после стольких лет общения, своим обостренным нюхом на всё, что было связано с ситуацией «не без дыма в кухне», как она это называла. Она удивляла меня также полным отсутствием деликатности, когда, переходя все запретные границы, она со своим вкрадчивым «ку-ку» просовывала голову в дверь, ведущую в глубины моего «я». Я убежден, что поверг бы ее любопытство непомерному испытанию, если бы предложил ей расположиться биваком у изножья нашей с Астрид кровати. Но что бы я о ней ни думал, Астрид считает, что она очень мила, и ее всегда забавляет поток писем, которыми засыпает нас ее неутомимая свекровь, находясь в гастрольном турне по провинции. Ее потребность в общении неутолима, и она способна угомониться лишь тогда, когда исчерпает все запасы писчей бумаги, лежащей на столе в номере отеля. В ее письмах, само собою, всегда говорится лишь о ней самой и о том, что ее личность как раз в данный момент претерпевает коренные, обвальные изменения и она начинает все видеть в новом свете. Это происходит по меньшей мере раз в два месяца. Моя мать — актриса, и хотя сменилось уже целое поколение с тех пор, как она стала слишком старой для того, чтобы играть Офелию или фрекен Жюли, она до сих пор не перестает изображать из себя игривую кошечку, какой, вероятно, была когда-то. Она позвонила, чтобы напомнить нам о премьере на которую уже приглашала нас по меньшей мере раз семь. Мать заметила с нажимом, что надеется увидеть в театре нас обоих. Ее интонация не оставляла сомнений в том, что она видит ситуацию насквозь, и я поймал себя на мысли, что мне хочется спросить ее о том, что же именно она видит. Но она уже пустилась в пространное повествование о своем «сердечном друге», как она его называет, то есть о несколько одряхлевшем с годами оперном режиссере с аденомой простаты и шелковым платком на шее. Меня всегда удивляло, что Астрид столь терпима к ней и даже не возражает против определения «восхитительная супруга», но жена лишь улыбается снисходительно, точно это вовсе не ее так называют. Астрид вообще очень снисходительна к людям, глупости отскакивают от нее, натыкаясь на ее приветливую улыбку, а между тем никогда нельзя знать, что она при этом про себя думает.