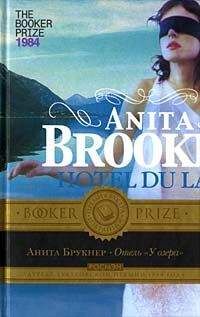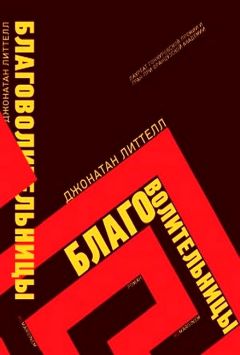Анита Брукнер - Очередное важное дело
— Какие новости оттуда?
— А какие оттуда могут быть новости? Лучше об этом не думать.
— Я стараюсь не думать, но это не так уж просто.
— Это еще долго будет непросто.
Тут вмешивалась мать Юлиуса и говорила, что им всем надо стараться жить настоящим. Сама она справлялась с этой задачей в своеобразной бесхитростной манере, приглушая тревогу и возмущение зацикленностью на собственном самочувствии, которое она ставила превыше здоровья мужа, и на Фредди, на которого возлагала преувеличенные надежды. О том, что ее надежды неоправданны, у Юлиуса был повод поразмышлять, когда он сидел с Фредди в почти голой комнате, напомнившей Герцу комнату в общежитии в Брайтоне. Фредди не проявлял ни малейшей склонности уехать отсюда. И Юлиус, и его отец понимали, что, когда Бижу Франк отбудет, миссис Герц вернется к своему обычному состоянию, снимет серьги и ожерелье и, скорее всего, снова переоденется в домашний халат. Дознание о здоровье Фредди будет проведено вечером, когда все уже будут уставшие, и всем прибавит усталости. Что родители знали об этих серых субботних днях? Что Юлиус позволял им узнать? Облегчать жизнь — вот была его задача. Даже обязанность. И наконец, допив вторую рюмку шерри-бренди, его мать позволяла себе принять предложение пойти лечь.
Ужин их состоял из припасенных для гостьи бутербродиков с копченым лососем и маленьких миндальных пирожных. А гостья, видимо, догадываясь об этом, ела очень мало. В каких-то вещах она была очень чуткой. Все они очень дорожили этой дружбой, поскольку больше дружить им было не с кем.
Но по сравнению с дневными часами даже эти утомительные вечера казались отдыхом. Ох уж эти субботы! Даже сейчас, дожив до возраста, когда ты уже, как говорил Герц, «на грани вымирания», он ненавидел выходные. Воскресенья были еще ничего. По воскресеньям он гулял, захаживал на пару минут в разные церкви — выяснить, понравится ли ему программа (обычно она ему нравилась), и неизбежно снова выходил на улицу, потому что чувствовал, что ему там не место, что его место где-то в менее благостной обстановке. Он не чувствовал, что Господь присутствует на таких церемониях, но знал, что обычным путем бога не достигнуть. Его печалило, что Иисус не является — ведь должен же Он слышать некий зов? Религия предков Герца, которую он не исповедовал, представлялась ему построенной на сплошных запретах, на исключительности праведников, для которой он не видел никаких оснований. Он был бы не прочь стать ближе к Богу, заручиться его покровительством, но этого было ему не дано. Хотя все его мысли и чувства были, как и у его родителей, сугубо мирскими, его не покидало ощущение, будто он изгнан из Германии за какие-то прегрешения предков.
И ему казалось, что дело именно в этом, потому что он не был исполнен любви, как подобает — он это точно знал — истинному христианину. К примеру, он питал все возрастающую неприязнь к своему брату. И что прикажете делать с этими детскими восторгами по поводу младенца Иисуса? Герц знал, что его задача — облегчать жизнь, но без помощи сверхъестественных сил это было бы слишком тяжело. Он полагал, что должен исполнять свой долг, раз уж от него это требуется. И все же, если бы ему открылось какое-нибудь доброе божество, он попросил бы короткого отпуска, всего лишь немного времени, чтобы поставить свою жизнь на нужные рельсы и сделать свой выбор.
В зрелые годы Герц поражался тому, что его родителям невдомек, что молодым полагаются свобода и развлечения. В конце концов он их простил: ведь представить их юными было попросту невозможно, они родились взрослыми людьми, измученными заботой. Он испытывал к ним жалость, любовь, смешанную с раздражением, он принимал их такими, какие они есть, но при этом знал, что так и не стал их истинным наследником, таким, каким бывает настоящий юный наследник. То же самое можно было сказать и о Фредди, несмотря на все привилегии, которыми они щедро его осыпали. В зрелые годы Герц сумел понять, что Фредди был смелее его, потому что сознавал, что возмущается своими родителями, которые направили его на ту головокружительную стезю, где он был не в состоянии удержаться. Нервные расстройства Фредди — если можно так их назвать — были скорее выражением протеста, нежели подлинным недугом. Что он заболевает, не было никаких сомнений, и желание миссис Герц представить болезнь Фредди проявлением его артистической натуры, творческой неудовлетворенностью свидетельствовало о ее слепоте и неизменности предпочтений. Заточение Фредди, таким образом, превращалось во что-то более терпимое и воспринималось ею как пауза, во время которой она может строить новые планы на его счет. Опять же по своей слепоте, она не понимала, что эти планы уже никому не нужны.
Итак, субботы были пропитаны меланхолией. На автобусе, потом на поезде, потом опять на автобусе Герц добирался до того отдаленного уголка, где проживал теперь его брат. Дом, бывший некогда частной гостиницей, переоборудовали для долговременного облегчения жизни тем, кто нуждается в убежище. Там был предусмотрен медицинский уход, однако пациенты — или жильцы — должны были сами себя обслуживать под присмотром доброжелательной миссис Уолтерс, домовладелицы, жившей там же. Эта замечательная женщина всякий раз встречала Юлиуса с искренним радушием. Вот еще один пример непостижимости Святого Духа, ибо миссис Уолтерс была набожна. Фредди, напротив, проявлял очень мало радушия, вероятно не сознавая, что Юлиус жертвует своим свободным временем, чтобы его навестить. Он без особого оживления принимал от брата пакет с фруктами и газету и указывал ему на кресло с таким видом, будто собирался давать интервью репортеру. Его манера говорить «моя мать» и «мой отец» также наводила на мысль об автобиографии. Казалось, он до сих пор пребывает в плену фантазий, что сейчас еще он артист, юный талант, хотя в определенный момент разговора иллюзия рушилась, и он ударялся в слезы. Тогда и Юлиусу казалось, что он сам сейчас заплачет — не только из-за Фредди, но и вообще из-за крушения семьи.
— Не плачь, — произносит он. — Ты выглядишь намного лучше. Вот съешь-ка лучше шоколадку.
И трясущаяся рука с готовностью тянется к сладкому, словно Фредди по-прежнему думает, что ему от рождения положена сладкая жизнь.
Облик его изменился; поредели волосы, ослабело от постоянного бездействия тело. И все же он не казался недовольным — за исключением тех моментов, когда заводил речь о прошлом. Задним числом он ощущал чудовищную несправедливость возлагавшихся на него надежд, и, судя по всему, эта маленькая пустая комнатка нравилась ему больше дома, который у него когда-то был, и, судя по всему, он чувствовал себя неплохо, пока не наступала пора жаловаться на то давление, которое его сюда привело.
Таков был ритуал этих посещений, и претензии Фредди всегда были одни и те же.
— Я был слишком молод, — говорил он. — Я не умел отказываться. Меня тошнило до и после каждого выступления. И все равно моя мать заставляла меня упражняться, она всегда сидела в первом ряду — в середине первого ряда — на каждом моем выступлении. Мой отец был с ней заодно, хотя мог бы меня спасти. Но у него не хватало смелости. Моя мать всегда им командовала. Жуткая женщина.
Он не спрашивал, как они поживают. Тон его как-то сам собой становился напыщенным, снисходительным по отношению к воображаемому журналисту. Только Фредди словно бы и не знал, что репортер на самом деле — его родной брат. Такие монологи были делом обычным, но Юлиус не мог не испытывать смущения, их выслушивая. Тщетно выглядывал он в окно и смотрел в белое небо. В комнате было так же холодно, как и снаружи. Даже в редкие солнечные дни за окном не утихали ветра.
— Тебе не скучно здесь? — спросил Юлиус, пытаясь нарушить монотонность дня. Это место просто источало скуку и неуют. — Тебе не хочется заняться какой-нибудь работой?
Фредди потупился.
— Я тут кое-что делаю, — сказал он. — Помогаю иногда на кухне.
— Это ты мог бы делать и дома.
— Я не могу уехать от миссис Уолтерс, — Фредди охватило возбуждение. — Я никогда не смогу уехать от миссис Уолтерс.
— Придется рано или поздно. Мы не можем платить.
— Мне найдут здесь работу. Тогда я смогу сам платить за эту комнату.
В конечном итоге так и вышло. Он стал получать небольшое жалованье в качестве прислуги за все, преимущественно — уборщика. От грязной работы руки его загрубели и распухли, однако трястись стали меньше. Юлиусу это казалось невыносимым позором, однако он понимал, что никакого другого варианта не было. Когда им придется переехать в квартирку над магазином, для Фредди там комнаты не будет. Каким бы благожелательным Юлиус ни старался быть, ему была невыносима мысль о том, что его место снова может занять брат. Поэтому он промолчал об изменениях в жизни Фредди, лишь сказал отцу, что на содержание брата теперь потребуется меньше денег. Отец бросил на него яростный взгляд, потом покорился. «Какой удар, — сказал он. — Мой чудесный мальчик…»