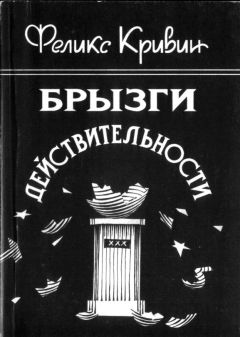Елена Толстая - Очарование зла
Вера с Болевичем, скрытые тьмой, стояли на противоположной стороне улицы. Желтые лучи не достигали их, иссякая где-то на середине мостовой. Затем все вдруг исчезло, растворилось во тьме: дверь заведения закрыли, действующие лица замолчали и нехотя разбрелись.
— Что, все русские в Париже так спиваются? — тихо спросил Болевич.
Вера покачала головой, зная, что он уловит ее жест в темноте.
— Такие, как Бунин или Цветаева, — разумеется нет. Другие… — Она пожала плечами. — Непризнанные гении… Монпарнэ.
— Кто? — не понял он.
— Монпарнэ. Так французы называют завсегдатаев Монпарнаса. Они проводят в кафе дни и ночи напролет. Здесь за кофе-кремом за двадцать сантимов можно просидеть целые сутки, и никто не побеспокоит платежом. Так они и сидят, ожидая, пока не подвернется кто-нибудь, кто за них заплатит…
— Да, — уронил Болевич, — как интересно… Париж совсем не похож на Берлин.
— Вы долго пробудете в Париже? — Вера искоса глянула на него, почти не надеясь услышать внятный ответ.
Никто не знает, насколько он задержится в Париже. Приезжают на две недели, а остаются насовсем. Приезжают насовсем, но случается нечто — и Париж выталкивает нежелательного человека, точно пробку из горла взорвавшейся бутылки. Марина с Сережей, например, приехали на десять дней — устраивать поэтический вечер Марины. С тех пор прошло уже почти десять лет…
Болевич так и сказал:
— Многое зависит от того, смогу ли я здесь найти работу.
— И какую работу вы здесь ищете?
— Я журналист.
Вера вздохнула:
— В таком случае плохи ваши дела. Здесь все русские — литераторы. Все пишут, все журналисты, даже Марина.
Болевич чуть замялся, а затем сделал признание:
— Эфрон обещал поговорить обо мне с главным редактором их журнала. С Сувчинским.
— А! — вырвалось у Веры. — Считайте, что вы там уже работаете.
Болевич чуть замедлил шаг:
— Вы полагаете, Эфрон имеет такое влияние на Сувчинского?
— Не Эфрон, — фыркнула Вера. — Я. Он мой муж.
Мгновенный холодок отчуждения пробежал между нею и Болевичем, но она и ожидала этого. Он остановился, выпустил ее руку, а затем взял ее под руку заново, совершенно иначе — любезно.
— Возьму на себя смелость обратить ваше внимание на то, что уже поздно, — осторожно проговорил он.
Она быстро глянула на него, искоса, как птица. Он уже ловил на себе эти взгляды.
— Да, — сказала Вера. — Уже поздно. Идемте же. Я обычно шатаюсь по Парижу до утра. Моя жизнь начинается в полночь…
— И как относится к этому господин главный редактор? — Голос Болевича зазвучал менее сдержанно: он явно успокаивался после краткого шока, вызванного Вериным сообщением.
— Господин главный редактор — мудрый человек. Он понимает, что держать птицу взаперти — бессмысленное занятие. Лучше уж сразу предоставить ей свободу..
Каблучки Веры деликатно цокали по мостовой. Очаровательный ночной звук, от которого на миг просыпаются томящиеся за ставнями бюргеры, потомки славных парижан. Воображение рисует походку идущей сквозь ночь женщины. Узкие бедра, изящные лодыжки, дерзкое выражение на кукольном личике. Независима — и крайне зависима, сильна, как черт, — и слаба, как ангел. Прелестное, сотканное из противоречий создание в дорогом вечернем туалете. Кем должен быть ее спутник, если она такова? Какой опасности он подвергается рядом с подобной женщиной? Ах, как хорошо лежать в постели рядом с надежной, пахнущей домашними коржами Мадлен и, мимолетно возмечтав о прекрасной незнакомке, вновь погрузиться в дрему подушек и покрывал…
Легкий стук каблучков удаляется, приглушенные голоса затихают вдали. На фоне розовой парижской зари горят ядовитые желтые фонари. Наступает новое утро.
Глава третья
— Болевич? — Петр Сувчинский, холеный сорокалетний мужчина с вежливой бородкой, аккуратно поставил кофе на поднос.
Вера, сварив кофе, вновь утонула в постели. Полузакрыв глаза, она вся предалась знакомому уюту супружеской спальни. На полу валялась корректура:
«…Фашистские государства покупали свое могущество возвращением к доистории, то есть к этапу приказания и подчинения. Да, внешне эти государства гораздо симметричнее и архитектурно законченнее, и это не есть деспотия, а свободный отказ индивидуума от индивидуальности, радость войти в ряды и больше не быть одинокой личностью. Гибель их будет мгновенна, ибо они не состоят из личностей и, следственно, подвержены массовому паническому геройству и панической подлости.
В сущности, фашизм и коммунизм есть возвращение России и Германии к природе…»
Рядом с листками, исчерканными каббалистикой корректорских знаков, упала с постели женская рука: тонкие белые пальцы, полоска золотого ажурного кольца, розовые ногти. Шелковый рукав домашнего платья, непорочно сонная полураскрытая ладонь.
Петр поправил руку жены, уложил обратно на постель.
— Ты только вчера познакомилась с Болевичем?
— Да, на вечере у Плевицкой, и после, с Эфроном и Мариной… и Святополк-Мирским, разумеется… — подтвердила Вера. Покой был для нее сейчас наивысшим наслаждением, и особенно — прикосновение прохладного шелка к коже.
— Где-то я слышал это имя… Болевич… — Сувчинский выглядел чуть озабоченным. Самой озабоченной на его лице сделалась каштановая, тщательно подстриженная бородка: она собралась в кучку и задвигалась. — Нет, не вспоминаю… А ты уверена, дорогая, что он — способный журналист?
— Абсолютно, — выдохнула Вера.
— Так ведь ты с ним только-только познакомилась и уже так уверена… Кто-нибудь еще его знает?
— Эфрон. — Вера потянулась, деликатно зевнула. — Болевич — его фронтовой товарищ. Так он сказал. Сережа нас и познакомил.
Неожиданно Сувчинский просиял:
— Вспомнил!
Вера смотрела на мужа с легкой усмешкой. Самую большую радость Сувчинскому доставляла упорядоченность: фактов, слов, бумаг — всего. Он всегда сам просматривал корректуру, и не потому, что болел за дело, как он утверждал среди своих сотрудников, а просто потому, что обожал корректорские знаки. Они были хранителями самого великого в мире порядка — порядка букв. Ни одна вещь не существует в полной мере, если для нее не найден письменный эквивалент. Например, деревья начали существовать в полной мере только после того, как Марина облекла их в стихи.
И вот сейчас Сувчинский был счастлив просто потому, что нашел для Болевича соответствующую ячейку в памяти.
— Разумеется вспомнил. Как его зовут? Александр?
— Да, — безразличным тоном отозвалась Вера.
— В двадцать третьем вся русская Прага говорила о бурном романе Марины с близким другом ее мужа. С этим самым Болевичем. Ты не слышала?
Вера покачала головой и застыла, отвернувшись, но Сувчинский этого не заметил. Он продолжал говорить:
— Она ничего не скрывала. Встречалась с ним практически открыто. Эфрон, кажется, предлагал разъехаться: она то соглашалась, то вдруг бросалась Эфрону на грудь, всё прилюдно… Потом он ее бросил.
— Кто? — глухо спросила Вера.
— Болевич.
— Болевич бросил Марину?!
— Вера, я только что это сказал! — в тоне Сувчинского послышалось раздражение. — Да, Болевич бросил Марину. Потому что выносить Марину может только Эфрон. У Эфрона уже корка наросла на душу, Марине не продолбить. Она ведь ужасна!
— Она гений, — сказала Вера, повторяя «расхожее слово», которое ничего ровным счетом не значило.
Но Сувчинский заволновался: еще бы! Речь шла о слове, об определении, о ярлычке!
— Да, Марина — гений, но это и делает ее ужасной! Хорошо потомкам: они будут иметь Цветаеву в чистом виде… — На миг в опасной близости от холеной бородки выступила — и тотчас пропала — слюнка: Сувчинский представил себе аккуратное, без опечаток, собрание сочинений Марины — без самой Марины, без ее мучительных всхлипов и ярких, ненавидящих бликов в зеленых глазах (небось такими же зелеными эти глаза делаются у нее только в минуты любви — да вот еще в редакции, где ей дают добрые советы).
— А нам приходится иметь дело с Мариной в ее целокупности, — продолжал Сувчинский.
— И это неудобно, — заключила Вера, зевая. — Но что же Болевич?
— А… Но я ведь уже сказал тебе, Верочка: он ее бросил. Ничего удивительного. Удивительно другое: что она так страстно увлеклась им! Впрочем, и это можно понять. Он слыл соблазнителем, Казановой, авантюристом; она и клюнула…
Вера поморщилась:
— Как Марина могла «клюнуть» — да еще на такой пошлый наборчик?
Сувчинский пожал плечами:
— Какое это имеет значение, если он, как ты говоришь, даровитый журналист…
Вера молча смотрела в потолок. Соблазнитель, «пошлый наборчик»… Обаяние «амплуа»: первый любовник житейской сцены. Наверняка не обременен какими-либо психологическими (и иными) глубинами. Баловень женщин, баловень судьбы, всякие там бегства из плена, белые-красные-белые, все случайно, везде авантюра. Чем он берет женщин? Лукавой усмешкой, которая как будто предназначена одной тебе — минуя всех прочих, и не только тех, кто рядом, но совершенно не нужен, но и прочих, оставшихся во всей остальной вселенной?