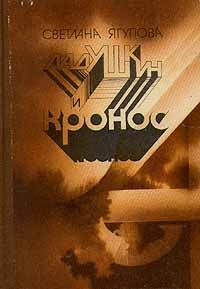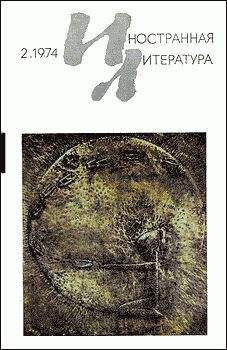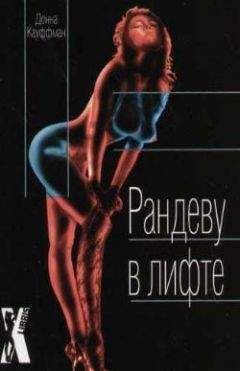Мартин Вальзер - Браки во Филиппсбурге
Ганс без всякого удовольствия выслушивал эти разоблачения. Но у Анны не было никого, с кем бы она могла поделиться. Все ее филиппсбургские приятельницы принадлежали к обществу, в котором и она вращалась, с ними она не вправе была откровенничать. Ганс же был чужаком, ему Анна могла все рассказать. Она терпеливо слушает, продолжала Анна, когда мать доказывает ей, насколько она, ее мать, современнее и моложе дочери. Такими скрытными, такими неразговорчивыми, когда речь заходит о щекотливых и все же столь важных для молодой жизни вопросах, были девицы пятьдесят лет назад, а к чему это вело, известно: комплексы, несчастные браки, смутность истинных ощущений, мучительные старания поддерживать пустопорожнюю форму! Берта Фолькман была, это он и сам заметил, кипучей натурой, оратором с прекрасными руками; но дочь не воспринимала ее прекрасных речей, она сидела, уставившись в одну точку, и лицо ее не выражало ни увлеченности, ни внимания, а мать, надо думать, шагала взад и вперед то перед ней, то за ее спиной, снова и снова поправляла своими прекрасными руками волосы на висках, снова и снова пыталась разъяснить дочери, как ей повезло, что она обо всем может откровенно говорить с матерью, что у ее матери кругозор не сужен традиционными представлениями, что ее мать не признает ни гнета крохоборческой религии, ни смехотворных пут обывательской псевдоморали, а, напротив, живет и судит в полном согласии с высшей, в известном смысле некодифицируемой религией и моралью. Но Анна ничуть не желала воспользоваться этой превосходно преподнесенной ей либеральностью. Она сидела, строптиво погрузившись в собственные мысли, пока мать говорила и говорила, и ни единым движением, ни единым словом не подавала вида, что вообще слушает ее.
Анна рассказала Гансу, что ее мать до брака была вроде бы художницей. Картины тех времен висят в дорогих рамах во всех комнатах Фолькмановой виллы. Ганс кое-какие видел. Большей частью на них изображены были цветы, но не яркие и веселые, вобравшие в себя всю прелесть погожих дней, нет, цветы Берты Фолькман, казалось, выросли зимой, хоть и под порывами фёна, но все же в то время года, когда за каждую каплю краски приходится жестоко бороться, когда собственную кровь отдаешь, чтобы нанести на холст красную, например. На своих картинах она никогда не изображала только цветы. Они, правда, заполняли весь передний план — жирные, тяжелые, никакому ветру их не склонить, всегда без стеблей, одни сваленные друг на друга головки, точно судорожно скрюченные трупы, к тому же всегда в блеклых, мрачных тонах, — хризантемы, лепестки которых напоминали белесых мясных червей, или астры, которые можно было принять за рожистые опухоли; но всегда из-за этих цветов на вас с коричневато-черного фона таращилась пара глаз, или торчала рука, бледнела женская спина, или ухмылялась разверстая конская пасть, или же маячила рука священника, скрюченные пальцы которого сжимали крест, не для того, чтобы благословить, а чтобы этим крестом, не обращая внимания на цветы, треснуть по физиономии смотрящего. А потом Берта, писавшая картины в манере, противной ее натуре, познакомилась с главным инженером Фолькманом; после войны он завел собственное дело, стал владельцем завода, усложнилось домашнее хозяйство, да и весь их быт, возросла общественная значимость их семьи, госпожа Фолькман выкрасила прядь все еще черных как смоль волос в седой цвет, показывая тем самым, что еще молода и может позволить себе, отдавая дань моде, шуточную игру с возрастом.
Ганс раз-другой попытался прервать Анну, попытался, приличия ради, защитить ее мать, ему неловко было оттого, что его посвящали в семейную жизнь этой барской виллы, о которой он накануне понятия не имел. Но крупный рот Анны стал жестким, жилы на шее, натянувшись, прорезались сквозь блеклую кожу, она наконец-то держала долго подавляемую речь. Гансу пришлось слушать. Так он узнал господина Фолькмана, бывшего главного инженера, а ныне предпринимателя, прежде чем был представлен ему за ужином. Человека, создавшего завод, опираясь на экономические возможности послевоенного времени и свои знания в области производства радиоаппаратуры. Теперь у него не было времени думать еще и о жене, и о своем единственном ребенке, и о своей духовной жизни. Ничего удивительного, что эта его жизнь, с точки зрения госпожи Фолькман, захирела и отстала от века. У госпожи Фолькман, истинной художницы, сказала Анна, были иные запросы, высшие. Она играла определенную роль в жизнелюбивом филиппсбургском обществе, приглашала к себе гастролирующих виртуозов и охотно читающих писателей и требовала, чтобы Анна тоже принимала участие в совершенствовании светской жизни города. Но Анне явно был ближе технический склад мыслей отца, она не умела во время очередного коктейля смеяться так громко, как того ждал от своих слушателей уверенный в успехе рассказчик, у нее не было в запасе тех изящных фраз, которые подхватывают и посылают дальше, выходя с бокалом в руке из салона на террасу, она не способна была сопровождать болтовню с мужчиной прельстительными телодвижениями, имитирующими заинтересованность, сдерживающими или подогревающими, движениями, каковые побуждают мужчину и дальше ораторствовать, ибо действие его речей отражается в этих движениях, как в приукрашивающем зеркале. Анна, к огорчению матери, оставалась тихой, угловатой девушкой, настороженно наблюдающей за празднествами матери. С поистине удручающей откровенностью рассказала она Гансу о том, что ее мать обманывает отца. Бог мой, сказал Ганс, да это же своего рода самозащита, и замолчал, не зная, что еще сказать, а потом добавил: каждый помогает себе, как может. Госпожа Фолькман одарена необыкновенной фантазией, а у того, кто наделен этим даром, — у того, как известно, всегда есть запросы; необыкновенной фантазии соответствуют, надо думать, и необыкновенные запросы. И верно, хозяйка дома представлялась ему теперь этакой белокожей самкой, быть может, оленихой, зеленоглазой, нагой и сильной, что пасется в фантастических джунглях, настороженно принюхиваясь, не вынырнет ли опять из зарослей ее муж в образе робота, дабы уволочь ее своими ручищами, изготовленными по техническим нормативам, в низменную производственную сферу. Анне же он сказал, улыбаясь, что это как борьба Пикассо с Гогеном или еще какая-нибудь борьба и что так уж повелось от веку в каждом браке. Детям в этом противоборстве больше всего достается, они, сами того не желая, постепенно принимают чью-либо сторону, хотя должны быть привержены обеим сторонам.
Вечером, после обеда, Анна почувствовала неловкость, она слишком много рассказала Гансу утром.
Видимо, поняла, что еще слишком мало знает Ганса. А тут за несколько утренних часов сделала его старым другом. Ганс же только по дороге домой осознал, какими тесными узами связала себя с ним Анна своей откровенностью. Силой сделала она его своим доверенным. Ему придется прийти к ней еще раз. Хочет он того или нет. После таких излияний будет грубо и невоспитанно, если он не даст больше о себе знать.
Куда бы Ганс ни попадал волею судьбы, он тотчас оказывался втянутым в какие-то чуть ли не близкородственные отношения. Всего один день пробыл он в этом городе, а Ферберовы детки уже карабкались по его штанинам, щекотали его, ввинчивались головами и ручонками в его живот, сама госпожа Фербер часами назойливо расспрашивала его, хотела знать о нем решительно все и все ему рассказать. Да что же было в нем такого, отчего и Анна, едва они поздоровались, тотчас начала расписывать ему свою долголетнюю войну с матерью? Разве он дал ей повод? Наверняка нет. Но он слушал ее и, не умея ежесекундно отыскивать новые темы, наклонив голову, тщетно искал их в узоре ковра или на кончике башмака; собеседники оказывались всегда находчивее, его манера держать себя как бы приглашала к откровенности, позволяла им наконец-то излить свои долго скрываемые беды. Охотно слушал он или нет, это, по всей видимости, ничуть не интересовало говорившего. За ужином у Фолькманов он опять попал в подобную же щекотливую ситуацию. И вообще этот ужин! Ганс никогда еще не ужинал в роскошных виллах промышленных тузов и потому проявил свою полную неподготовленность. В семь хозяйка дома ударила на террасе в гонг. Трижды. Это означало, что до ужина осталось еще полчаса, пожалуйста, приготовьтесь, вечерняя косметика, вечернее платье и что там еще каждому нужно, чтобы быть готовым. Ганс вымыл руки, но чувствовал себя неловко, у него не было темного костюма. Около половины восьмого по крутому подъезду к вилле прошуршал черный лимузин, долговязый шофер, выскочив из передней дверцы, опрометью бросился к задней и выпустил из огромной машины маленького человека — это и был господин Фолькман. Тут с террасы раздались пять ударов гонга. Это означало: пора. Ганс вошел в столовую вместе с Анной, сложив ладони опущенных рук, но тут же их снова разомкнул, заметив, какие они у него горячие, а ведь сейчас его начнут представлять куче гостей. Но, к его удивлению, в столовой были только сама хозяйка дома, Анна и он. Пять ударов гонга, не многовато ли? Да еще три подготовительных, стало быть, даже восемь, их же, вместе с господином Фолькманом, будет, судя по всему, не более четырех человек, и он единственный гость!