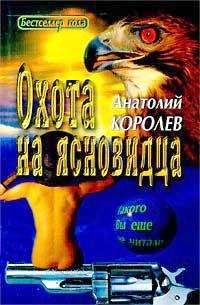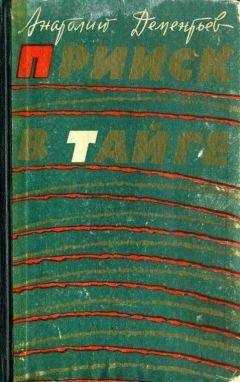Анатолий Королев - Эрон
Вино было стремительно выпито, банка с икрой минтая вычищена до икринки, дыня обглодана со студенческим пылом. «Мукузани» помогло Адаму преодолеть душевное потрясение, и он уже успокоенным уселся за руль «Победы» — развезти Майю и подруг по домам. Увидев смешной детский затылок, Майя обняла его сзади руками и истерично поцеловала в ершик: ну, здравствуй, братец. Машина слегка вильнула в летящем ряду авто, рвущихся от Сокольников к площади трех вокзалов, и ее тут же одернули злыми клаксонами. Над столицей висело раскаленное небо небывало жаркого июля. Солнце выпекало из асфальта пот; комки белых туч на глазах слипались в циклопическую небесную пирамиду, которая дышала на город пеклом близкой грозы. Майя с подругами ехала в легендарный Дом правительства, где служила в домработницах в семье своей же подружки, и на Большом Каменном мосту по крышам машин хлестанули первые водяные розги. Адам еле успел нырнуть в переулки дома-крепости, как хлынул водяной потом, девушки бросились в подъезд, а он еще долго сидел один в голубой утробе грозы, пока не иссяк напор стихий, не погасло небесное электричество, и не стали лопаться пузыри величиной с детский кулачок на широких гладких ручьях; душа его успокоилась, глаз бродил по черным бетонно-стеклянным крестам бывшего 3-го Дома Советов, и ожившее воображение говорило ему, что вот оно, искомое — подлинный некрополь революционной трагедии, голова волчицы третьего Рима, а взвинченному уму мерещились на балконах, за стеклами окон, на крышах, в кабинах лифтов сотни гипсовых слепков в стиле американца Сегала, с обнаженной в гипсовой плоти кровельной арматурой. Вот оно! Тысяча белоснежных покойников с безглазыми и безротыми лицами, в потеках гипса и извести на щеках, с концами проволоки, торчащей из слепошарых глазниц, но… но если ты предпочитаешь не быть, подумал Адам, какой же ты к черту архитектор? Трудно найти другой пример такого же массивного властного бесконечного долгого, осязаемого и тотального явления в мире, какой являет собой архитектура. Как одновременно не погрязнуть в окликах жизни и предъявить — кому? — свое чистое человечное «я»?
Донк!
Отвечает шарик пинг-понга, брошенный ночью с балкона в темень молчания.
Падения
Бац!
Бухнув форточкой и глотнув свежего воздуха с морозца, Надя отошла от окна в глубь проклятого цеха. Ее уже криком звала Зинаида Хахина, которая одна не могла справиться с барабаном. На-вра-ти-ло-ва! орала она косым ртом, бессильно горбясь над тележкой. Надя кинулась бегом, вспомнив, что еще вчера Зинка предупредила: девки, у меня больные дни. Таскаем все вдвоем.
— Не вопи, слышу! — Подхватив тяжеленный барабан, обмотанный тканью, они вдвоем опустили его в пропиточную ванну. Обе работали в толстых резиновых перчатках, и все равно все пальцы проедены краской. А вокруг был ад. Ад под названием аппретурного цеха ткацкой фабрики имени Ванцетти. Барабан, булькнув зловонной жидкостью, ушел на дно. Подобрав на цементном полу крюк, Надя принялась сцеплять барабан с готовой тканью. Зацепила. Потянула вверх. Вывалив барабан на лоток сушки, она выматерилась — снова кружило голову, свежего воздуха хватило едва на десять минут.
Лимитчицы работали внутри сырой мрачной коробки, в стене которой было проделано несколько маленьких окон. Сюда на примитивных подвесных рельсах на потолке подтаскивали со склада барабаны с тканью. Тут их вручную сгружали на железные тележки, тащили к аппретурным ваннам с красителями, где ткань окрашивалась. Затем барабан доставали крюками и опять на тележках, на своих горбах отвозили дальше на просушку. За рабочий день их бригаде было положено аппретурить 92 барабана. Больше можно — меньше нельзя. План! Работали одни женщины. Одеты были так: на головах плотно намотанные платки, чтобы ни один волосок не торчал. Лица же были замотаны до самых глаз, дышали бабы через платки. Телогрейки. Ватные брюки. На ногах — резиновые или кирзовые сапоги: пол в цехе был залит лужами красителя. Сапоги съедались краской и лаками за месяц, телогрейка держалась немного дольше, но и она превращалась в конце концов в разноцветные лохмотья. Перчатки лопались и рвались от обилия железа чуть ли не каждый день. И по поводу их замены стоял вечный ор в кладовке. В общем, ад. Бабы в клубах испарений, в разноцветном рванье, с железными крюками в руках сами были похожи на чертей в преисподней. Не люди, а какие-то грудастые обрубки тел. Вдобавок к этой толчее над ядовитыми ванными пекло было ошарашено грохотом барабанов о чугунные днища, шипеньем сжатого воздуха, свистом-ревом подвесной дороги, клацаньем крюков, лязганьем тележек, матом, частым надрывным кашлем. Если звуки различались и отделялись друг от друга, то запахи красок, лаков, тел и металла сливались в отвратительную водянистую плоть вони. И — измученно отмечала про себя Надя — весь этот ужас был ужален какой-то адской гибельной красотой… шелково переливались алые, изумрудные, апельсиновые потоки красителей, расцветали на раскрошенном полу радужные змеиные лужи.
Внезапно грохот оборвался, встала подвесная дорога, замерли, качаясь на крюках, барабаны с тканью. Ура, обед. Шел пятый месяц ее московской планиды.
Обедали в столовской пристройке, куда бежали через холодный двор, сквозь февральский снежок. Когда-то здесь и размещалась та доисторическая красильня, которая положила начало аппретурному ^гаду. Салат из зеленого лука с яйцом. Щи с мясом. Биточки с рисовой кашей. На третье — пустой компот из сухофруктов. Навратилова опять возмутилась, что нет сметаны и молока. Остальные устало молчали. Был понедельник — самый тяжелый день жизни. Сидели за столом всей 13-й комнатой: Навратилова, Зинаида Хахина, Искра Гольчикова и Валька Беспалец. Вдруг Валька подцепила ложкой в щах таракана. Надя поперхнулась и больше есть не могла. Девки зло хохотали. Валька пошла с ложкой в одной руке и тарелкой в другой требовать замены порции. Уплачено, сволочи! Выйдя во двор, Надя закурила и подняла лицо к серому небу, откуда сыпала жесткая февральская крупа, по асфальту вертела поземка, несла мусор и снег. Боже, как все обрыдло. Не докурив, Навратилова зло побежала в ленинскую комнату. Начальник была на месте. И Надя, оборвав ее болтовню по телефону, в который раз с вежливой яростью выложила этой крашеной гадине с наклеенными ресницами все — и насчет разбитых окон, и насчет вентиляции, и насчет бесплатного молока и сметаны. Валерия Васильевна Мясина побагровела, затряслась от гнева: ты опять, опять качаешь права. Катись из цеху к япени матери! Никто тебя в Москву не звал, бля! Неизвестно, чем бы все сие кончилось, но тут в дверь влетело чье-то косое лицо с криком: Лериясильевна, Лериясильевна, в подсобке пожар! Мясина, хряпнув трубкой, сорвалась с места: пожарных вызвали? Вызвали. Не едут!
Пожар в подсобке был таким яростным, — краска! — что пожарным еле-еле удалось сбить огонь. И горела она страшным шафранно-фиолетовым языком света. Смотреть на пожар сбежалось почти все производство, все равно электричество выключили и аппретурный гад замер. Стояли большой веселой толпой во дворе, шутили, дышали всласть свежим воздухом. Горевшего никто из рабочих баб не жалел, только вяло металось начальство да вкалывала пожарная команда. Надя тоже радовалась передышке, смотрела, как летит снег на столб магического огня. Ее новые подружки стояли рядом: смешливая Зинка Хахина, сумасшедшая Искра Гольчикова, рослая и мрачная Валька Беспалец — все из одной роковой 13-й комнаты. Искре — восемнадцать, Вальке — двадцать два, Хахиной аж двадцать пять!
Всю прошедшую осень и предновогодье Надя со всей вместе комнатой переживала за дурную любовь Зинаиды Хахиной и стрелка военизированной охраны Иосифа Саркиса. Надо сказать, что насчет мужчин в женском общежитии царила простота нравов необыкновенная. Мужская общага была напротив. И звали общежития Париж и Лондон; в Париже жили женщины. У всех трех соседок были романы, четко вписанные в некий молчаливый график — сегодня очередь на свидание у Гольчиковой, следующее воскресенье за Валькой Беспалец, у Хахиной день любви — среда. В день мужского визита подругам было положено уходить в кино или сматываться в город. Городом звали Москву. Были и ограничения: на ночь мужиков не оставлять, все хотели спать в своей постели. Поначалу любовное меню шокировало Навратилову, но адова работа обдала таким крутым кипятком, что она быстро поняла — кровать в общаге — это единственная отдушина в жизни лимиты. Сама же она стала как бы мертва, красота погасла, она специально обстригла волосы под мальчика, забросила напрочь косметику, не ездила «в город», забыла вкус помады, одевалась подчеркнуто по-мужски. Кроме того, сама ее внешность: исключительная лепка лица, египетский разрез глаз, высокие скулы, впалые щеки — была совершенно не во вкусе местных ловеласов. Надо отдать должное — подруги отлично понимали смысл ее затворничества — протест, и уважали за то, что она ни за что не будет женщиной там, где нельзя быть человеком… При всей внешней грубости они были настоящими женщинами. Так, влюбившись в подлеца ловеласа Иосифа, та же Хахина вела себя с суровым неистовством античной Медеи: пошла на жестокую драку с его прежней любовью Людкой Молотовой, хватала в руки нож, до крови порезала пальцы, вытащила напуганного Иосифа из комнаты соперницы, взяла посреди ноября отпуск за свой счет ему и себе, сняла деньги с книжки и увезла в свадебное путешествие куда-то в Закарпатье, но вернулась одна — подлец Иосиф жениться не пожелал, хотя заявление в загс они давно подали. Он мне сердце разбил, паразит, ревела Хахина. Но куда бежать лимитчику из Лондона? И в конце концов Иосиф вернулся с повинной головой. По просьбе девчонок Надя сама поговорила с усатеньким слащавым сердцеедом. Разговор был муторный, тяжкий. Навратилова даже стала пить с ним водку и мужественно раздавила бутылку пополам. Она была так напряжена, что абсолютна не пьянела. Словом, Иосиф с Зинаидой снова пошел в загс писать второе заявление, притих, купил одно обручальное кольцо, на второе не было денег, а вскоре Хахина гордо заявила, что будет рожать, хотя сие было строжайше запрещено лимите — молодых мамаш немедленно увольняли и выселяли — гудбай, Москва! — в двадцать четыре часа на улицу. А ведь у Зинки шел последний год отработки из пяти, до постоянной прописки оставалось меньше года. М-м да. Надя не могла понять, как можно без памяти влюбиться в такого ничтожного человечка с головой в форме огурца, с бачками котлеткой на щеках и заячьим сердцем? Но мужество Зины — маленькой кудрявой женщины — не могло не восхищать. Зина решила во что бы то ни стало быть счастливой, любить, иметь мужа, стать матерью, наконец. Но судьба распорядилась иначе: однажды ночью, ее, истекающую кровью, увезла машина скорой помощи. Надя хотела ехать с ней, но врачи в машину не пустили; адрес больницы тоже не сказали. Через две дня Зина позвонила на вахту, позвала кого-нибудь из тринадцатой и, рыдая, сообщила про выкидыш, назвала адрес, куда запихали, просила привезти чего-нибудь поесть: колбасы, яблок, пива! То, чем здесь кормят, есть нельзя. Накануне была черная суббота, когда цех вкалывал, наверстывая план, все трое были вымотаны, и только Надя нашла в себе силы поехать в больницу — она взяла такси и битый час моталась по одинаковым дрянным спальным окраинам Москвы в поисках 8-го Силикатного проезда. Больница нашлась, когда на счетчике навертело двенадцать рублей шестьдесят копеек. Надя думала, что хотя бы в больнице будет какой-то порядок, принялась искать приемное отделение — вручить передачу. Ей быстро объяснили, что надо прямиком шагать в гинекологию на третий этаж, что в воскресенье тут самообслуживание… грязные лестницы, немытые окна, кошки! и плевки вокруг скукоженных урн — все дышало тоскливой ненавистью к людям. Прямо в пальто она заглянула в третью палату. Пахло нечистотой, кровью, кошками. С кроватей — их было девять — на нее глянули мертвенные иссиня-бледные лица каких-то мальчиков. Боже мой, это были женщины! Зину она нашла в коридоре.